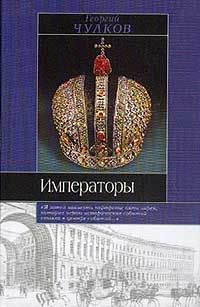Он очень неохотно согласился на монархию Бурбонов, и то после фальсифицированного мнения нации, будто бы пожелавшей реставрации. «Бурбоны, – сказал он, – неисправившиеся и неисправимые (non corriges et incorrigibles), полны предрассудков старого режима». И не будь Александра, Франция не получила бы и той жалкой конституции, какую она получила. Либерализму Александра не было никакой поддержки.
Он жил на улице Сен-Флорентен, в доме у Талейрана опутанный целой сетью интриг. Ему приходилось отдавать немало душевных сил и умственного внимания для переговоров с Наполеоном, который ждал в Фонтенбло своей участи. Александр был весьма озабочен тем, чтобы, удаляясь на остров Эльбу, Наполеон ни потерпел в пути каких-либо оскорблений или хотя бы даже неудобств. Он также заботился о том, чтобы французские офицеры были наилучшим образом обеспечены во всех отношениях.
Нельзя того же сказать о русских солдатах. Упоенный своей европейской популярностью и парижским успехами, император Александр забыл в странной растерянности о судьбе русских мужиков, которых он вел через всю Европу, чтобы победить при их помощи своего страшного соперника. Теперь дело было сделано, а победители были заперты в казармах. Их плохо кормили, обременяли нарядами и при случайных столкновениях с французами русские всегда оказывались виноватыми. Офицеры также были недовольны тем предпочтением, какое Александр оказывал иностранцам. Впрочем, и солдаты и офицеры, несмотря на невзгоды, успели научиться в Париже кое-чему и теперь они по-новому смотрели на своего императора.
Александр праздновал в Париже свою победу над Наполеоном. Перед ним в его воспоминании проходили торжественные декорации сражений. Короли и принцы, старый император Франц и его коварный дипломат, полководцы и министры – весь этот блестящий сонм привилегированных Европы стоял перед глазами Александра, как театральный апофеоз. Но эта пышная феерия не могла скрыть от его глаз черные провалы кулис. Там было совсем иное. Вот, например, какое «донесение» показал ему после Лейпцигской битвы барон Штейн.
«По пути туда, – пишет знаменитый германский врач Рейль, – я встретил бесконечные обозы с ранеными. Их везли на открытых телегах. Они были навалены грудами, без сапог, без всякого прикрытия, точь-в-точь как возят на убой телят мясники. За повозками тянулись страдальцы, не нашедшие себе места на них, в том числе многие тяжело раненные, с отстреленными и оторванными членами. И в этот день, то есть ровно через неделю после вечно памятной битвы народов, находили на поле сражения людей неискоренимая жизненная сила коих не могла быть разрушена ни ранами, ни ночными морозами, ни голодом. В Лейпциге я нашел около двадцати тысяч раненых и больных воинов всех наций. Необузданнейшая фантазия не в состоянии набросать картину, представившуюся мне. Самый крепкий человек не в состоянии созерцать эту ужасную панораму. Я представлю вам лишь немногие черты страшного зрелища, черты, которые я могу засвидетельствовать как очевидец. Наши раненые размещены в таких местах, где я не решился бы поместить и больных собак. Они лежат или в глухих подвалах, где воздух не содержит в себе и такого количества кислорода, которое необходимо для пресмыкающихся, или в школьных помещениях с выбитыми стеклами, или в холодных церквах, где холод растет по мере того, как уменьшается испорченность воздуха, или, наконец, подобно некоторым французам, прямо на дворе, где небо служит вместо кровли, где раздаются вопль и скрежет зубов. В одном месте больных умерщвляет спертый воздух, в другом – их истребляет мороз. Несмотря на недостаток общественных зданий, не подумали отвести под госпитали хотя несколько частных домов. Ни одной нации не отдано предпочтение. Все бедствуют одинаково… Нет даже соломы, на которую можно было бы уложить раненых… Одна часть их уже умерла, другая умрет наверное. Их члены страшно распухли как бы вследствие отравы и поражения антоновым огнем. Больные гниют в собственных нечистотах…
Заключаю мое донесение ужаснейшим зрелищем, при одном воспоминании о котором мороз пробегает по жилам. На открытом дворе городской школы я увидел целую гору, состоявшую из всевозможных отбросов и голых обезображенных трупов наших воинов, Они валялись тут, как останки преступников и разбойников. Их пожирали на виду у всех вороны и собаки. Так ругаются над телами героев, падших за отечество».
Наполеон любил осматривать поля сражений. Мрачный вид трупов и смрадный запах нисколько его не смущали и даже как будто доставляли ему какое-то странное удовлетворение. Александр никогда не мог привыкнуть к этим зрелищам. Наполеоновской цельности в его душе не было никогда.
Кроме этих страшных язв войны, этой грубой и явной несправедливости, Александра смущала та ужасная ложь и бесстыдная корысть, которыми обычно руководствовались политики всех рангов и всех национальностей. Весь путь от русской границы до Парижа был страдным путем не только военной борьбы с Бонапартом, но и мучительной борьбы с союзниками и интриганами. Во главе этих интриг стояли Меттерних и австрийские полководцы. Сколько было из-за них проиграно сражений! Сколько было загублено жизней! Всегда безупречный в личном обращении, владевший собою, как рыцарь, мягкий и ласковый, под конец походов император так был нравственно утомлен, что окружающие не узнавали в нем прежнего Александра. Малейшее противоречие выводило его из себя. Он сделался вспыльчив и нетерпелив. Князь Волконский писал К. Ф. Толлю, что жить с императором все равно «как на каторге». Все дрожат ежеминутно от его гнева.
В Париже Александр снова овладел собою. Обворожительная улыбка опять появилась на лице «северного Тальмы». Но в глубине его души осталось, кажется, навсегда презрение к людям. Однажды он сказал сам: «Я не верю никому. Я верю лишь в то, что все люди – мерзавцы». Такое убеждение естественно могло сложиться у человека, имевшего дело с Метернихом, Талейраном и сотнями иных негодяев. С волками жить – по-волчьи выть. И русский император доказал в свою очередь, что у него немалые «дипломатические» таланты. Наполеон даже на острове Св. Елены говорил про него: «Александр умен, приятен, образован. По ему нельзя доверять. Он неискренен. Это – истинный византиец, тонкий притворщик, хитрец». По словам Шатобриана, «искренний как человек, Александр был изворотлив, как грек, в области политики». А шведский посол в Париже Лагербиельне говорил, что в политике Александр «тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская».
Итак, осенью 1814 года открылся большой спектакль европейской дипломатии – Венский конгресс. Александр играл на этих подмостках не последнюю роль, соперничая с Меттернихом и Талейраном.
Блеск венского двора и международного дипломатического корпуса был необычаен. Австрийскому правительству обошлось «представительство» на атом конгрессе в несколько миллионов рублей, и пришлось увеличить промысловые налоги вдвое, так что во время эффектных прогулок за город, когда коронованные особы, светские дамы и дипломаты, щеголяя роскошью, показывались публике, рабочие и ремесленники кричали в лицо этим вершителям высокой политики не слишком приятные приветствия, похожие на оскорбления.
Тем не менее конгресс веселился. Кто-то сказал по этому поводу: «Конгресс танцует, но стоит на месте» («Le congres danse, mais ne marche pas»). Танцевал и Александр, обольщая венских красавиц. Однако международная интрига была в полном разгаре.
Бывший прелат, шестидесятилетний Талейран, сам говоривший о себе, что «с своей кривой ногой он похож на ту черепаху, которая обогнала зайца», орудовал на конгрессе и дурачил противников, хотя и был представителем побежденной стороны. Он брал взятки с королей и принцев, обещая свое содействие соперникам. Не менее бесстыден был Меттерних. Австрийская империя, самая фальшивая из империй, когда-либо существовавших, лишенная вовсе самостоятельной духовной культуры, вся сотканная из многообразных национальностей и сильная единственно своей последовательной системой деспотического бюрократизма, была достойно представлена Меттернихом. Этот человек не хотел ничего, кроме сохранения во что бы то ни стало того режима, который был его режимом. Он воспитался на идеях энциклопедистов, но сделал из этих идей на первый взгляд неожиданные выводы, впрочем, не менее с этими идеями согласованные, чем всякого рода либерализм, если взглянуть на них поглубже. Меттерних понял, что вольнодумцы XVIII века, освобождая человека от всякого авторитета, никак уж не могут обижаться, ежели человек объявит себя сторонником того порядка, какой будет ему по вкусу, не руководствуясь никакими соображениями о так называемом «общем благе». Меттерниху был по вкусу австрийский порядок. Этот бесподобный реакционер желал ввести австрийскую систему повсюду, ибо чувствовал, что реакция может быть прочной лишь при круговой поруке всех держав.