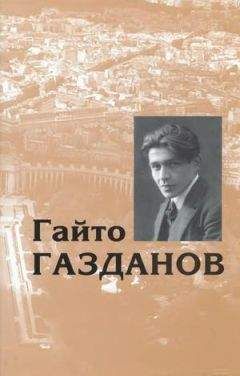– И подумать только, что я, который раздавал папиросы пакетами, вынужден теперь просить одну папиросу у вас. – И тотчас же, повернув голову направо, прибавил: – Она опять здесь, стерва!
Мимо нас проходила по тротуару сильно прихрамывающая женщина.
– Посмотрите, – сказал негр с презрением, – это называется женщина!
– В чем ты ее упрекаешь?
– Это алкоголичка, месье, вот в чем я ее упрекаю; ее надо упрекнуть в пьянстве, вот что я ей ставлю в упрек. – И он закричал ей вслед: – Ты опять пьяна?
– Кусок грязного негра, – ответила она.
– Что? Ты хочешь, чтобы я тебе морду набил?
Он кричал с очень свирепой интонацией, но не двигался с места, и когда оборачивался ко мне, то смотрел ленивым взглядом своих черных глаз с желтоватыми белками.
– Вы знаете, как здесь работают?
– Нет, старик, не знаю.
– Так вот, месье, здесь нет гостиниц. Такой здесь квартал. Есть Ритц и Мерис, но это для королей и герцогов, снять комнату там нельзя.
– И что же?
– Так работать приходится на скамейках Тюильри. Клиент садится на скамейку, а женщина садится на него верхом.
– А?
– Да, так здесь работают. Так вот эта стерва была такая пьяная вчера ночью… Ее клиент сидел и ждал ее, а она никак не могла сесть сверху как следует. Было просто стыдно смотреть на это, месье, – женщина в таком состоянии, что она не могла даже делать свою работу.
* * *
Иногда, раз в несколько лет, среди этого каменного пейзажа бывали вечера и ночи, полные того тревожного весеннего очарования, которое я почти забыл с тех пор, что уехал из России, и которому соответствовала особенная, прозрачная печаль моих чувств, так резко отличная от моей постоянной густой тоски, смешанной с отвращением. Все менялось тогда, точно перенастроенный рояль, и вместо грубых и сильных чувств, которые мучили меня обычно, – неутоленное и длительное желание, от которого тяжелели и наливались кровью мускулы, или слепая страсть, в которой я не узнавал своего лица, когда мой взгляд падал в эти минуты на зеркало, или непобедимое, непрекращающееся сожаление оттого, что все не так, как должно было бы быть, и еще это постоянное ощущение рядом с собой чьей-то чужой смерти, – и я входил, не зная, как и почему, в иной мир, легкий и стеклянный, где все было звонко и далеко и где я, наконец, дышал этим удивительным весенним воздухом, от полного отсутствия которого я бы, кажется, задохнулся. И в такие дни и вечера я с особенной силой ощущал те вещи, которые всегда смутно сознавал и о которых очень редко думал, – именно, что мне трудно было дышать, как почти всем нам, в этом европейском воздухе, где не было ни ледяной чистоты зимы, ни бесконечных запахов и звуков северной весны, ни огромных пространств моей родины.
Но зато здесь, в Париже, существовали десятки русских магазинов и ресторанов. В магазинах продавались русские продукты, в ресторанах были русские блюда: блины, голубцы, пельмени, бесконечный борщ. За много лет парижской жизни я перебывал в большинстве этих ресторанов и помнил в лицо гарсонов и кельнерш, которые путешествовали из одного квартала в другой; иногда они сами становились хозяевами и открывали ресторан, в день открытия пили шампанское и давали объявление в русской газете:
«Петр Васильевич Сидоров имеет честь уведомить дорогих друзей и клиентов, что им открыт собственный ресторан „Петушок“ на такой-то улице. Шеф кухни – Василий Иванович Комаров. Большая артистическая программа. Ежедневные выступления любимца публики Саши Семенова. Большой выбор закусок. Дежурное блюдо. Сегодня: расстегаи. Завтра: поросенок в сметане».
Я закрывал глаза и представлял себе неподвижные, железно-стеклянные цветы на столиках, маленькие лампы с абажурами. Петра Васильевича Сидорова, очень аккуратно одетого, глаза его жены с классической поволокой, – оркестр и любимца публики, Сашу Семенова, грузного, лысеющего мужчину с густым, хрипловатым баритоном и плешью, тщательно прикрытой немногими волосами; он пел, выдвигая руки вперед угловатыми и не уверенными жестами в наиболее патетических местах, и говорил близким друзьям, уже под утро, перед закрытием ресторана, что он сторонник итальянской школы, и друзья соглашались и тоже верили этой итальянской школе, хотя прекрасно знали, что Саша Семенов был в свое время штаб-ротмистром конной батареи и никакого отношения к итальянской школе иметь не мог, но питал большую слабость к женскому полу и был героем многочисленных романов. Все, что он пел, всегда звучало одинаково минорно, независимо от слов, и в голосе его дрожала густая и, как говорили его поклонницы, незримая слеза. С годами он полнел и лысел, становился тяжелее на подъем, но голос его не слабел и не менялся, несмотря на многолетнюю привычку к вину. Сам он говорил иногда – не тот, конечно, голос, разве у меня так звучал голос в двадцать втором году? – но это было неверно; я слышал его тогда, и пел он совершенно так же, как теперь. Всюду, где бы он ни был – в любом городе Европы, в балканских столицах, в Шанхае или в Америке, – он видел все одно и то же, несмотря на разницу стран: ресторанные стены, оркестр, эстрада, те же слова тех же романсов, та же музыка, тот же шницель по-венски, та же водка; менялись только женские лица, да выражения глаз, да волосы, да голоса, да тела. Он сам неоднократно говорил, что если подумать о его жизни, то получается впечатление, что он едет все время в каюте какого-то корабля, мимо разных берегов и разных стран; они меняются, а в каюте и на корабле – все остается прежним. И он жаловался на монотонность своего существования, – обычно сильно выпив и говоря об этом почти плачущим голосом, – и друзья его пожимали плечами и потом в разговорах между собой не могли не заметить, что вот, дескать, до чего допился человек: видел столько стран, пел в стольких городах, а жалуется на монотонность существования. Но прав был все-таки Саша Семенов, а не они. У него была необыкновенная память на лица, но, как и все или почти все его способности, она проявлялась только после того, что он выпивал уже значительное количество водки; в трезвом состоянии он был всегда вял и не способен ни к какому умственному усилию. О его памяти я мог судить потому, что однажды, в пятом часу утра, мы остались вдвоем в ресторане – женщина, которую я сопровождал, и я, – он подсел к нам и спросил меня, не бывал ли я в таком-то году, в таком-то месте, в Константинополе, в сопровождении таких-то и таких-то людей. Он точно помнил их физиономии, их костюмы, их вид. Это меня поразило, я ему ответил; он сразу сделался словоохотлив, и когда я его спросил, почему он выбрал именно ресторанную карьеру, он сказал с внезапной откровенностью и искренностью:
– Потому что для другой карьеры нет данных. Были бы, не пел бы я в ресторане. Вот смотрите, не придет же никому в голову представить себе Шаляпина в кабаре. А Сашку Семенова так же нельзя себе представить на концертной эстраде или в опере. Я ведь, батенька, в пении и музыке партизан.
В нем, как и во многих русских людях, был, однако, совершенно искренний надрыв, та чистая и бескорыстная печаль, которую было бы уместно предположить у поэта или философа и которая казалась неожиданной и в какой-то мере незаконной у бывшего ротмистра, ставшего кабаретным певцом. Поразительность этого заключалась в том, что чувство это было несомненно высшего порядка, и ему должны были бы соответствовать другие, столь же возвышенные представления, которых у Саши, конечно, не было. Это в каком-то смысле было так же удивительно, как если бы простой фермер или дворник вдруг оказался бы любителем Рембрандта, Бетховена или Шекспира. Но это не было ни случайным, ни временным; и у многих простых русских людей я замечал именно этот вид душевной роскоши, сравнительно редкий в Европе вообще. В этих русских было от природы заложено некое этическое начало, естественно предшествующее возникновению творческой культуры, возможности которой казались почти совершенно заглушёнными здесь, на Западе.
Разговаривая как-то с моим постоянным собеседником, Платоном, я сказал, что в этом смысле мне все здесь казалось так же неблагополучно, как в музыке или пении, в терминологии которого меня поражало выражение «chanteur a voix»[11], непереводимое на язык русских понятий. Платон долго говорил тогда о гибельном влиянии Декарта, которого он искренно презирал, о том, что французской поэзии вне Бодлера не существует. «А Рембо, а Франсуа Биллон, а Ронсар?» Но Рембо, по его мнению, был только начинавшийся опыт, значительность Биллона и Ронсара он отвергал, – и в этом разговоре я с удивлением выяснил, что Платон отрицательно относился почти ко всему, что считалось выражением французского гения. Он с пренебрежением говорил о Гюго и Флобере, о Монтене и Ламартине, о Ларошфуко и Вольтере, ума которого он, впрочем, не оспаривал. Единственные, кого он признавал, были Стендаль, Бальзак и Бодлер и еще какой-то человек, который, по его словам, был головой выше их всех – он назвал мне его фамилию, и я ее не запомнил; я только твердо знаю, что ни до, ни после этого я ее нигде не слышал. Когда я ему сказал, что меня удивляет его мнение о французской культуре, он пожал плечами и ответил, что это выражение – анахронизм и никакой французской культуры нет, по крайней мере, в настоящее время; до войны четырнадцатого года ее последние остатки еще влачили жалкое существование, но теперь? – было бы нелепо ее искать в той среде, из которой состоит привилегированный класс Франции и которая представляет собой невежественную сволочь.