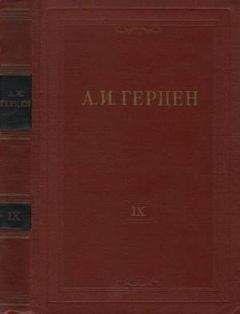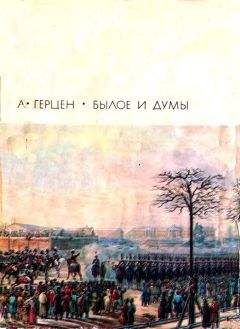Не легка была жизнь, сожигавшая людей, как свечу, оставленную на осеннем ветру.
Все они были живы, когда я в первый раз писал эту главу. Пусть она на этот раз окончится следующими строками из надгробных слов Аксакову.
«Киреевские, Хомяков и Аксаков сделали свое дело; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.
С них начинается перелом русской мысли. И когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.
Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но неодинакая.
У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно.
Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: всё почернелые лица из-за серебряных окладов, всё попы с, причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний, мы знали и другое – что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, – это наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока –
Mutter, Mutter, laß mich gehen,
Schweifen auf den wilden Höhen![97]
Такова была наша семейная разладица лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили горный дух, остановивший наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на пониманье нет; время, история, опыт сблизили нас, не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они – в нашей.
На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!»[98]
Кончина моего отца. – Наследство. – Дележ. – Два племянника.
С конца 1845 года силы моего отца постоянно уменьшались, он явным образом гаснул, особенно со смерти Сенатора, умершего совершенно последовательно всей своей жизни: невзначай и чуть-чуть не в карете. В 1839 году, одним вечером, он по обыкновению сидел у моего отца; приехал он из какой-то агрономической школы, привез модель какой-то агрономической машины, употребление которой, я полагаю, очень мало его интересовало, и в одиннадцать часов вечера уехал домой.
Он имел обыкновение дома очень немного закусывать и выпивать рюмку красного вина; на этот раз он отказался и, сказав моему старому другу Кало, что он что-то устал и хочет лечь, отпустил его. Кало помог ему раздеться, поставил у кровати свечу и вышел; едва дошел он до своей комнаты и успел снять с себя фрак, как Сенатор дернул звонок; Кало бросился – старик лежал возле постели мертвый.
Случай этот сильно потрёс моего отца и испугал; одиночество его усугублялось, страшный черед был возле: три старших брата были схоронены. Он стал мрачнее и хотя по обыкновению своему скрывал свои чувства и продолжал ту же холодную роль, но мышцы изменяли, – я с намерением говорю «мышцы», потому что мозг и нервы у него остались те же до самой кончины.
В апреле 1846 лицо старика стало принимать предсмертный вид, глаза потухали; он уже был так худ, что часто, показывая мне свою руку, говорил:
– Скелет совсем готов, стоит только снять кожицу. Голос его стал тише, он говорил медленнее; но ум память и характер были как всегда – та же ирония, то же постоянное недовольство всеми и та же раздражительная капризность.
– Помните, – спросил дней за десять до кончины кто-то из его старых знакомых, – кто был наш поверенный в делах в Турине после войны? Вы его знавали за границей.
– Северин, – отвечал старик, едва подумавши несколько секунд.
Третьего мая я его застал в постеле; щеки горели лихорадочно, что у него почти никогда не бывало; он был беспокоен и говорил, что не может встать; потом велел себе поставить пиявки и, лежа в постеле во время этой операции, продолжал свои колкие замечания.
– А! ты здесь, – сказал он, будто я только что взошел. – Ты бы, любезный друг, съездил куда-нибудь рассеяться, это очень меланхолическое зрелище – смотреть, как разлагается человек: cela donne des pensées noires![99] Да вот прежде дай-ка мальчику гривенник на водку.
Я пошарил в кармане, ничего не нашел меньше четвертака и хотел дать, но больной увидел и сказал:
– Какой ты скучный; я тебе сказал – гривенник.
– У меня нету с собой.
– Подай мой кошелек из бюро, – и он, долго искавши, нашел гривенник.
Взошел Голохвастов, племянник моего отца; старик молчал. Чтоб что-нибудь сказать, Голохвастов заметил, что он сейчас от генерал-губернатора; больной при этом слове дотронулся, по-военному, пальцем до черной бархатной шапочки; я так хорошо изучил все его движения, что тотчас понял, в чем дело: Голохвастову следовало сказать «у Щербатова».
– Представьте, какая странность, – продолжал тот, – у него открылась каменная болезнь.
– Отчего же странно, что у генерал-губернатора открылась каменная болезнь? – спросил медленно больной.
– Как же, mon oncle[100], ему слишком семьдесят лет, и в первый раз открылся камень.
– Да, вот и я, хоть и не генерал-губернатор, тоже очень странно: мне семьдесят шесть лет, и я в первый раз умираю.
Он действительно чувствовал свое положение, это-то и придавало его иронии какой-то макабрский[101] характер, заставлявший разом улыбаться и цепенеть от ужаса. Камердинер его, который всегда по вечерам делал мелкие домашние доклады, сказал, что хомут у водовозной лошади очень худ и что следует купить новый.
– Какой ты чудак, – отвечал ему мой отец, – человек отходит, а ты ему толкуешь о хомуте. Погоди денек-другой, как отнесешь меня в залу на стол, тогда доложи ему (он указал на меня), он тебе велит купить не только хомут, но седло и вожжи, которых совсем не нужно.
Пятого мая лихорадка усилилась, черты еще больше опустились и почернели, старик видимо тлел от внутреннего огня. Говорил он мало, но с совершенным присутствием духа; утром он спросил кофею, бульону… и часто пил какую-то тизану[102]. В сумерки он подозвал меня и сказал:
– Кончено, – при этом он провел рукой, как саблей или косой, по одеялу. Я прижал к губам его руку – она была горяча. Он хотел что-то сказать, начинал… и, ничего не сказавши, заключил:
– Ну, да ты знаешь. – И обратился к Г. И., стоявшему по другую сторону кровати.
– Тяжело, – сказал он ему и остановил на нем томный взгляд.
Г. И., заведовавший тогда делами моего отца, человек чрезвычайно честный и пользовавшийся его доверием больше других, наклонился к больному и сказал:
– Все до сих пор употребленные вами средства остались безуспешными, позвольте мне вам посоветовать прибегнуть к другому лекарству.
– К какому лекарству? – спросил больной.
– Не пригласить ли священника?
– Ох, – сказал старик, обращаясь ко мне, – я думал, что Г. И. в самом деле хочет посоветовать какое-нибудь лекарство.
Вскоре потом он уснул. Сон этот продолжался до следующего утра, должно быть, это было забытье. Болезнь за ночь сделала страшный успех; конец был близок, я в девять часов послал верхового за Голохвастовым.
В половину одиннадцатого больной потребовал одеться. Он не мог ни стать на ноги, ни верно взять что-нибудь рукой, но тотчас заметил, что серебряной пряжки, которой застегивались панталоны, недоставало, и велел ее принесть. Одевшись, он перешел, поддерживаемый нами, в свой кабинет. Там стояли большие вольтеровские кресла и узенькая, жесткая кушетка; он велел себя положить на нее. Тут он сказал несколько слов непонятно и бессвязно, но минут через пять раскрыл глаза и, встретив взором Голохвастова, спросил его: