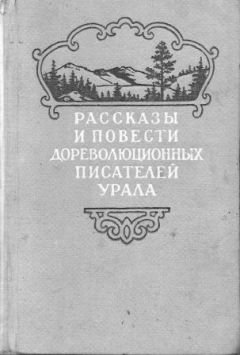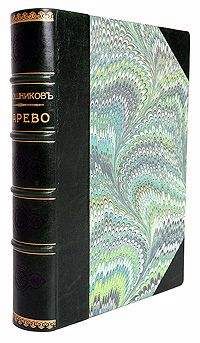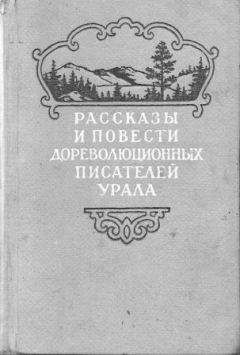Утром, чуть свет, Антип проснулся и начал собираться в путь. Проснулись Итбика и Ибрагим. Пока Антип собирался, Ибрагим долго шептался о чем-то с матерью. А потом, с странно веселым и смущенным лицом, он вдруг пот ложил руку на плечо Антипа и сказал:
— Подожди, знаком. Чай пить будем…
— Некогда, милый… Спасибо…
— Айда, живи у нас…
— Как это, милый?
— Работником… Работать будем вместе…
Лицо Антипа просветлело…
— Что же… Я не прочь… Народ вы, я вижу, хороший…
Они поговорили и условились в цене: семь рублей в месяц и десятину посева на выбор. Ибрагим рассчитывал в этом году сеять.
Антип остался.
Подходила весна…
Башкирская деревня под лучами яркого солнца как будто ожила. В роще, где стояли высокие, сильные березы, как безумные, кричали грачи и ткали из крика зовущую и страстную жизнь. Вылезали из изб одичалые, полуголодные люди, грелись на солнце и лопотали повеселевшими голосами. После тяжелой и длинной зимы, после дней, пустых и холодных, наступило время, когда жизнь вызывала к жизни даже больные, истощенные голодом, смуглые тела.
Ибрагим готовился к посеву и много работал. Еще зимой, когда до весны было далеко, Ибрагим вместе с Антипом возили в город от подрядчика дрова и бревна с Урала, потом — сено с лугов и даже с месяц жили в городе, где возили камень. Зато к весне Ибрагим прикупил семян и уговорил отца не отдавать в это лето пашни в аренду. Закир, попрежнему живущий взятками, махнул рукой и отдал землю сыну. К старой семье он почти не заглядывал, разжирел, пил много водки, ругался на сходах «по-русски» и часто бил свою молоденькую Ханисафу. И Ханисафа таяла, как охваченный снегом цветок…
Однажды к Ибрагиму приехал башкир и заявил, что Закир умирает.
Ибрагим вскочил на лошадь и помчался к отцу, он ни разу не был у него в новой избе. Закир лежал на нарах, хрипел, страшно закатывал глаза, и грудь его была обмочена кровью. Ночью, когда Закир возвращался пьяный из гостей, кто-то выстрелил в него, и пуля попала в грудь. У Закира было много врагов.
Ибрагим сел около отца и долго смотрел ему в лицо. Страшно ворочая белками глаз, отец хрипел, и слышно было далеко его свистящее дыхание. В груди у Закира что-то клокотало, и на губах появлялась иногда кровавая пена. Увидев сына, он что-то хотел сказать ему, но из горла вырвался только один странный, шипящий звук:
— Хрчш…
Ибрагим не выдержал, взял за руку отца и заплакал. В углу, вся завернувшись в красное широкое покрывало, сидела безучастная и молоденькая Ханисафа. Иногда из щели покрывала сверкал взгляд черных, агатовых глаз, и этот взгляд, мгновенный и короткий, дышал ненавистью.
Закир промучился сутки и умер. Обрядили его на скорую руку. Пришел мулла, прочитал молитвы, и Закира стащили на кладбище. И шел за его телом только один Ибрагим и приехавшая вскоре Итбика. И старая жена, брошенная Закиром, горько рыдала над могилой мужа. Молоденькая Ханисафа забрала свое имущество и ушла к отцу. Ибрагим и Итбика вернулись в свою деревню.
Весна ширилась и охватывала страстно мятущуюся и жадную землю. Зеленели деревья, пели птицы, и люди готовились к посеву. Ибрагим с Антипом все время были на пашне. Антип, всегда веселый и работящий, с весной сделался как-то мрачен и неразговорчив. Ибрагим участливо следил за ним и спросил однажды:
— Что, Антип? Хворал, что ли?
Антип хмуро посмотрел куда-то в сторону и ответил:
— Что-то тоскливо, хозяин. Что грех таить: на родину тянет. Баба да сын остались. Вишь, кабы здесь они были.
— Сюда их надо… — сказал Ибрагим.
— Легко говорить, милый человек. Далеко ехать сюда. Да что им здесь делать? Кабы земля своя была.
Ибрагим промолчал и задумался…
А Антип еще больше тосковал. Похудевший и угрюмый, он молча возился с работой, и видно было, что он сильно страдает.
Как-то раз, когда они были вместе в поле, Ибрагим вдруг тронул молча его за руку. Антип взглянул в лицо Ибрагиму и удивился.
Красивое лицо смуглого юноши было озарено какой-то странно ликующей улыбкой.
— Айда за мной, — коротко сказал Ибрагим. Антип молча повиновался…
Легко, как горная коза, шел впереди гибкий и стройный Ибрагим. Удивленный и озадаченный, неуклюже шагал сзади Антип. Взойдя на небольшой холм, откуда развертывались вспаханные поля, голубой простор и серебро сверкающего вдали озера, Ибрагим остановился и, протянув вперед смуглую руку, сказал:
— Это все моя земля. После смерти осталась… Видишь?
— Вижу, — уныло ответил Антип, весь охваченный невольным чувством зависти. — Ах ты, господи, боже, сколько земли. Ну и башкуры. Благодать одна господня. И сколича ее лежит напрасно, землицы-матушки этой. У нас бы наперли на нее…
— Моя земля, — гордо повторил Ибрагим. Загадочно улыбнулся и добавил тихо:
— Теперь тащи сюда бабу и сына…
— Зачем?
— Так… я дам земли… Работай… Бери пять, десять десятин… Можно заимка строить… Мне одному много земли… Тебе одному скучно… Я все вижу… Живи два, три года… Десять лет… Сколько хочешь…
Антип просиял…
— Ах ты, господи, боже мой. Вот человек-то. Этак, пожалуй, можно и писать жене, чтобы ехала?
— Пиши… Денег дам вперед… Им надо много ехать сюда…
— Ах ты, господи, боже, — лепетал Антип, весь охваченный бурным приливом радости.
Ибрагим отвернулся и пошел обратно. По дороге он сорвал тонкую ветку и хлестал ею по ичигам. Сзади него шел человек, разводил руками, бил себя по бедрам и почти выкрикивал нелепые, отрывистые слова:
— Ах ты, господи, боже. Шутка ведь, дядя. Башкур. Душевный человек. Мне хоть бы эти два года пробиться… Вместе с семьей, значит… А там… бог впереди… Может, и у нас тогда земля будет… Бабу и Андрейку сюда пока… Веселей. Ах ты…
Антип выкрикивал, разводил руками, а Ибрагим хлестал бешено веткой по ногам и старался заглушить в себе чувство свежей, молодой и бурной радости.
1910
ПРИМЕЧАНИЯ
Рассказ впервые опубликован в «Альманахе „Уральской жизни“ 1910, кн. II, стр. 5-22.
Печатается по тексту книги: А. Туркин. Степное. Издательское товарищество писателей. СПБ. 1914.
notes
Примечания
1
Чувал — глинобитный очаг.
2
Калым — выкуп, вносимый женихом родителям невесты у некоторых народностей.
3
Киль — иди.
4
Якши — хорошо.
5
Махан — конина, конское мясо.
6
Анай — жена.
7
Атай — отец.
8
Инай — мать.
9
Ашай, ашать — ешь, есть.
Ходатель
На Егорьевском станичном сходе горланили на этот раз особенно свирепо. Никто решительно не желал слушать других, и каждый, широко разинув рот, гневно сверкая глазами, выбрасывал, будто камни, тяжелые, иногда обидные слова… Молчаливым слушателем был только атаман станицы Гусев — грузный, красный казак, с длинными пушистыми усами. Все смотрели на красное, крепкое, как репа, лицо атамана, на его жирный, гладко выбритый подбородок и упрямо, назойливо кричали все разом, бросая слова, кованые гневом…
Станичный писарь Ивашкин, обращавший на себя внимание сизым и пухлым носом, делал вид, что пишет, но — на самом деле — рисовал на бумаге почему-то крупную блоху… И мучительно размышлял о ревизии, которую собиралось делать войсковое хозяйственное правление…
А сход все сильней волновался. Послушные до этого люди кричали так, что атаман пугливо сжимался, а писарь Ивашкин еще ниже склонялся над огромной расплывшейся блохой…
— Скоро строевых лошадей будем продавать.
— И продадим.
— Черт с ними.
— На войну, так первых нас?
— А теперь издыхай с голоду?
— Лошадей всех смотали. На ком весной пахать должны?
— Атамана запряжем: сможет.
Не надолго смолкли, умаялись. Атаман воспользовался этим и проговорил робко:
— Ссуды будут разрешены всем… Откроются столовые…
Опять, как порох, вспыхнули разом:
— Жди эти ссуды окаянные!
— К весне придут — когда подохнем!
— С нас так скоро дерут!
— В одну секунду.
— Постановить приговор — чтобы сейчас помогали.
Кричали еще долго и составляли приговор, где постановили просить кого следует о немедленной помощи казакам. И в приговор всем хотелось вписать обидные, гневные, страстные слова, но писарь Ивашкин ловко смягчал выражения, и приговор вышел деликатным и почтительным. Молча подписывали и уходили, как волки, злые и упрямые, готовые на все… Атаман следил неподвижно, а писарь звонко скрипел пером на бумаге…
Начальство собиралось уходить, когда дверь медленно отворилась и в правление, вместе с морозным облаком, вошел высокий, костлявый мужик с робким и несколько наивным лицом. На этом лице не было совсем растительности, и голубые глаза смотрели доверчиво и кротко.