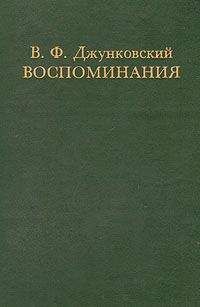— Амадеюшка! — простонал он и, не стесняясь, заплакал.
Немолодой господин погладил его по плечу с участьем.
Едва переставляя ноги, Михаил Иванович все же обогнал процессию, зашел с другой стороны и глянул на гроб. Здесь цветов почему-то совсем не было. В посеребренном гробу лежал старый человек с редкими русыми волосами надо лбом, широколицый, с розовыми щеками, словно разоспался. Нос у покойного был маленький и луковкой.
«Слава богу!» — подумал Михаил Иванович и даже подмигнул покойнику. Чужие — бог с ними, своих жалко.
Из первого экипажа, из-за опущенных шторок, послышался тихий плач.
Знакомое, почти родное имя вновь донеслось до слуха секретного агента, и он снова глянул на почившего. Нет, нет, сомнений не было. Не тот, не тот!
Михаил Иванович облегченно вздохнул, отошел в сторону и торопливо пересчитал мятые бумажки. Денег было сорок пять рублей. Судьба снова смилостивилась над ним. Сюртук из коричневого альпага повис, словно видение, в воздухе, шевеля крыльями рукавов. Уют, тепло и сытость представились на мгновение. С легким сердцем пустился он к Никитским воротам, но тут снова возникла перед ним сутулая спина частного пристава, гуляющего по бульвару.
«Караулит!» — догадался Шипов и забежал в первый же двор. Там, на пустынном этом дворе, он нашел сарай с выломанной дверью, скользнул внутрь и пристроился на останках какой-то телеги. «Это что такое! И до Матреши не добраться… Вот беда. Нет, нет, отсидеться у нее, да и лететь в Петербург, падать князю в ножки: ваше сиятельство, наговор! Я всем сердцем, Ваше сиятельство) Да вы велите проверить… А чего проверять? Чего там, в Ясной-то? Чего?.. Граф Толстой там… А чего у графа-то? Чего я ему должен? Али он чего должен?.. Ах, ты господи, в Петербург надо. Подальше от частного пристава, подальше!..»
Изнывая от страха и голода, просидел он так, покуда спасительная темнота не опустилась на город, и тогда он вышел из своего укрытия и с упрямством безумца заскользил вдоль домов снова к Никитским воротам.
Наконец он осторожно постучал в темное Матренино окно. Никто не ответил ему. Он постучал снова и вздрогнул. За воротами в полночной тишине слышались чьи-то медленные шаги — топ-топ, топ-топ. Может быть, сам частный пристав прогуливался там, терпеливо ожидая появления злополучного секретного агента.
Вдруг что-то белое, расплывчатое прильнуло из комнаты к оконному стеклу, и голос Матрены ахнул:
— Батюшка, да неужто вы?!
— Матреша, — с радостным отчаянием зашептал Михаил Иванович, открывай скорее… Вернулся я…
Едва раздался его голос, шаги за воротами участились, приблизились.
— Да открывай же! — крикнул Шипов и тут же услыхал из комнаты глухие голоса, один — Матренин, другой — мужской, незнакомый.
Матрена. Они мои благодетели… Так что уж вы не гневайтесь.
Мужчина. Ну, Матрена!.. Ну, гляди, Матрена!..
Матрена. У нас с вами уговор был… Поживее собирайтеся.
Мужчина. Пожалеешь… Ох, пожалеешь, смотри. Где жилетка моя? Я этого не люблю.
Матрена. Вот ваша жилетка… У нас с вами уговор был.
Михаил Иванович вслушивался в эту горячую ночную перебранку, и непонятные чувства одолевали его, и какая-то неясная боль возникала в нем, и ему чудилось, что он стоит посреди двора, а дом с темным окошком во-он где.
Мужчина. Свечу бы зажгла… Ну, погоди, Матрена…
Матрена. У нас с вами уговор был. — И прильнула к окну. — Сейчас, сейчас, скоро уж…
«Эх, Матреша, — подумал он с горечью, — как же это ты?» Но тут же омахнул слезу с души и сжал сухие губы поплотнее. За что было корить? Был и у него с нею неписаный уговор, чтобы все налегке, чтобы все весело, словно водяной жучок с пузырями на лапках бежит по воде, а пяточки-то сухие. Было. Мы вас не трогаем, и вы нас не трожьте… Было? Верно, было. И счастья от этого не прибавлялось, но было. Покой был. А нынче? Чего ж ты плачешь нынче, галицкий почетный муж? Вон как она для тебя старается, или тебе сего мало?.. Воду на тебя не льет, дурным голосом не прогоняет, не клянет тебя в окошко…
Мужчина. Ну, Матрена, гляди…
Матрена. А чего глядеть? У нас с вами уговор был. — И снова в окно: Да сейчас же, сейчас…
Двор расширился еще больше. Дом почти исчез. Печаль охватила Шилова. Шаги за воротами отдавались, как в колодце. Михаил Иванович отступил от окна на шаг, потом еще на шаг, затем повернулся и кинулся к воротам, прямо на частного пристава… За воротами никого не было, под дальним фонарем дремал извозчик, и едва Шипов уселся, он зачмокал, занукал, и лошадка тронулась. Прощай, Матрена!
Ранним июньским утром из здания Николаевского вокзала, что в Петербурге, вышел галицкий почетный гражданин и расправил плечи. Небо над площадью было голубое, раннее солнце окрасило крыши домов, люди только подымались со своего ложа и еще не принимались за дела, было тихо, пустынно и благостно.
Первое живое существо, которое возникло перед Шиповым, была рябая курица. У самого вокзального порога она рылась в навозе деловито и самозабвенно. После всего пережитого Михаилом Ивановичем она показалась ему чудом, явившимся, чтобы успокоить и намекнуть на надежду. Она была одна на громадной пустынной площади, и глухой свисток чугунки не пугал ее. Как славно она работала, ранняя труженица; как немного ей было нужно, чтобы радоваться жизни самой и быть случайным утешением для других. Что-то от мирной деревенской тишины, от утреннего деревенского солнца, от свежей травы и шороха первых, наливающихся колосков, от сохнущих на заборе крынок и прохладных сеней было в ее гребешке и в каждом движении. Ну, трудись же, трудись, рябая деревенская дурочка, образина ты эдакая, хохлаточка, трудись одна на широкой булыжной петербургской площади, покуда тебя не испугали да не выгнали.
Солнце поднялось над крышами и коснулось рябенькой головки. Шипов глядел на нее и не мог оторваться. А город постепенно проснулся. Секретный агент махнул хохлатке рукой, будто старой своей подружке, и шагнул в столицу. Но тут же, едва он миновал это рябенькое деревенское чудо, все изменилось вокруг и благостность и уют исчезли. Что-то такое вдруг будто надломилось с тонким хрустом, и перед Шиповым выросли высоченные каменные великаны и преградили ему путь. Потянулись дешевые ваньки, но синие, красные и зеленые поддевки на извозчиках были почище и построже, чем у их московских собратьев; замелькали пролетки и экипажи пошикарнее, и кучера в блестящих цилиндрах глядели мимо секретного агента куда-то вдаль; зашагали гвардейские офицеры, поблескивая своим добром и пугая недоступностью; даже торговцы пирожками кричали не во всю грудь, не от горла, не с прибаутками, как в Москве, а вполголоса, достойно, будто читали молитву; вдоль Невского засияли дворцы, радостные, мрачные и холодные, подобные неприступным крепостям, и черный, аккуратный, прохладный поток чиновного люда побежал мимо них, обтекая их и шлифуя.
Михаил Иванович направился к Фонтанке, в тот дальний ее конец, где розовое, точно утренний голубь, раскинуло крылья тихое здание, послушное князю Василию Андреевичу. Скорее к нему, скорее. Падать в ножки, глядеть жалостно, говорить срывающимся, покорным голосом, с придыханием, легко отскакивать, подскакивать, ползти, не обращая внимания на насмешки, укоры, угрозы, ползти прямо, видя перед собой разноцветные плитки паркета… Ваше сиятельство… Ваше сиятельство!..
Возле Шереметевского дворца он пошел медленнее. Опять будто что-то надломилось с тихим звоном. Лица прохожих были спокойны и отчужденны.
«Эх, мышка грязная, — подумал он про себя, — куды ж ты так летишь-то?»
Помятый, потускневший, с изможденным лицом, семенил он по Фонтанке, окруженный чугунными оградами, мраморными стенами, за которыми — во множестве сытые коты, атласные, мягкие, лакированные. Они не подымаются со своих подушек, а ждут, когда серый хвостик мелькнет али бочок, чтобы лениво круглой цепкой лапкой погладить по дрожащей мышиной шерстке.
Михаил Иванович почувствовал резкую боль в спине, возле поясницы, остановился, хотел выпрямиться — не смог. Но вот боль как вспыхнула, так и прошла, а спина не разгибалась. Так, скрючившись, и пошел он вперед, навстречу своей гибели.
Никто не обращал на него, согнутого, внимания, лишь одинокий солдат на деревянной ноге проскакал мимо и прохрипел, то ли смеясь, то ли плача:
— Вступило? Гляди не разогнись — треснешь! Прикажи бабе утюгом провесть…
Какой бабе? Каким утюгом?.. Шипов шел уже совсем медленно, а когда показалось розовое пристанище, остановился и вовсе. Он встал у парапета, мысли его были печальны. От розовых стен исходил такой холод, веяло такой поздней осенью, таким молчанием, что хотелось рыдать, как рыдают солдатки, не стесняясь.
Тут вспомнилось ему, как, еще молодой, гибкий, весь как на пружинах, скользит он с подносом по княжескому дому в столовую, где в сборе уже вся семья за обедом. В окна бьет солнце. Поднос вспыхивает ослепительно. На душе у Шилова праздник — так просто, неизвестно с чего. Поэтому он держит поднос на одной руке. Поднос неподвижен, а сам он в движении, словно французский танцовщик, и он любуется собой, каждым своим шагом, каждым наклоном, как он легко выгибается, точно льется, как ставит ноги, едва касаясь пола, как прекрасны на нем малиновый венский камзол, и кружева на манжетах, и туфли с пряжками, и белые чулки на деревенских ногах. Ловкач, ловкач, ну и ловкач! И ему слышится музыка, и он почти танцует под нее, и так в танце подлетает к столу и в танце, почти не прикасаясь руками к блюдам, раскидывает их перед сидящими, словно сдает карты. Поглядите на него! Аи да Мишка!.. Он делает круг, обегая стол, и еще один, и снова, и все это в танце, под музыку, а что, как оглянутся и увидят, и восхищению не будет конца, и дадут ему пять рублей за вдохновенный танец. Но никто не глядит, у них там свои разговоры вполголоса, не замечают. Он делает четвертый круг. Поднос пустеет, затем начинает уставляться вновь, использованные тарелки ложатся на него сами, вилки с вензелями, соусницы, бокалы… Никто не глядит. Он делает пятый круг, в зеленых глазах его тоска, отчаяние. Поднос летает над головами сидящих, он почти касается их, звенит посуда, музыка играет громче. Каков ловкач! Артист!.. Поглядите, ваше сиятельство, да поглядите же, как я умею, ровно птица, а ведь раньше, помните, ничего такого не умел, все норовил упасть, вы еще гневались, а нынче-то поглядите, гляньте… Он пошел на шестой круг. Никто не глядел. И, последний раз взмахнув подносом, подобно раненому журавлю, он полетел прочь…