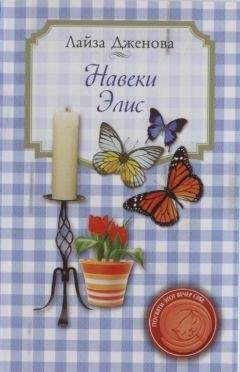сводил их ручки вместе. Каждый вечер в ту секунду, когда Карина крепит маску, плотно прижимая ее к лицу, Ричард осознает, насколько все-таки тяжело и поверхностно он дышал весь день, словно с самого утра затянул на груди тугой корсет, а Карина наконец-то его ослабила. С маской на лице он вдыхает предостаточно свежего кислорода и выдыхает необходимый объем углекислого газа, и глубоко укоренившееся напряжение покидает его тело, точно пар, поднимающийся от горячих блинчиков. Он не задохнется в ночи.
Пульмонолог говорит, что, судя по всему, форсированная жизненная емкость легких Ричарда снижается примерно на три процента в месяц. БиПАП может создавать только тот уровень давления воздуха, который необходим для облегчения дыхания. Устройство не дышит за него. Оно дышит с ним вместе. Придет время, когда поддержки БиПАПа станет недостаточно. Тогда он столкнется с единственно возможным выбором: смерть или трахеостомическая трубка вкупе с механической вентиляцией легких и круглосуточным наблюдением. Как и в случае со слабо прожаренным стейком «Нью-Йорк» сухой выдержки, он старается об этом не думать.
В то время как для Ричарда появление БиПАПа ознаменовало более качественный ночной сон, для Карины все вышло с точностью до наоборот. Она поправляет маску, чтобы убедиться, что та прилегает герметично. Карина прекрасно знает, что плотное прилегание, как и все прочее, — это, увы, ненадолго. Когда Ричард зевает, морщит нос, потому что тот чешется, поворачивает голову направо, маска может открепиться. Если это происходит, аппарат подает сигнал тревоги, и Карине приходится вставать, чтобы надеть маску заново. И так несколько раз за ночь. Она стала спать на диване в гостиной, чтобы бегать было поближе.
Ричард — будто новорожденный младенец, а Карина — страдающая от недосыпа молодая мать, ходячая зомби. Но с новорожденными есть хоть какой-то свет в конце туннеля. Младенец переходит на твердую пищу, набирает вес, ему исполняется годик — достигаются какие-то важные этапы развития, малыш чудом спит всю ночь напролет. А тут не будет ни света в конце туннеля, ни этапов развития, которые бы значили, что Ричард больше не нуждается в помощи на протяжении ночи. Если только не считать важным этапом его смерть. Может, Карина так и думает.
Ричард смотрит ей в лицо, в ее прелестные зеленые глаза. Она обследует маску по периметру, но поскольку та покрывает центральную часть его лица, кажется, будто она изучает самого Ричарда. Ее глаза выглядят тусклыми, лишенными даже проблеска внутренней искорки. Длинные волосы Карины собраны в низкий хвост, из него выбилась прядка и прикрыла правую бровь. Ему хочется протянуть руку и заправить прядь за ушко.
Карина смотрит ему в глаза и вздыхает. Ричарду хочется сказать: очень жаль, что она так устала. Жаль, что он попал в переплет и ему некуда было идти. Жаль, что он стал для нее такой обузой. И вдруг, как ни странно, ему впервые хочется сказать ей: жаль, что все так сложилось.
И он сожалеет о прошлом без привычных оговорок, без оправданий, без соразмерного списка ее преступлений на другой чаше весов, без уравнивающих обе стороны обвинений в ее адрес. Есть только просьба о прощении. Ему жаль, что он пренебрегал ею, их семьей, их жизнью. Жаль, что изменял ей. Он не знал, как быть со своим одиночеством, чувствовал себя недооцененным, невидимым, нелюбимым и понятия не имел, как поговорить с ней об этом. В постели с Кариной он ощущал себя более одиноким, чем где бы то ни было на земле. Он никогда не признавался ей в этом. Помнит, как эти зеленые глаза пронзали его, вспыхивая от обиды, наказывали или смотрели сквозь него равнодушно и отчужденно. Он слишком боялся спросить у нее: что не так? И услышать ответ. Они оба были пособниками в своем взаимном молчании.
Ее измученный взгляд — она, верно, молится, чтобы маска продержалась на месте хотя бы пару часов, — встречается с его взглядом. Он хочет сказать ей о своих сожалениях прямо сейчас, прежде чем она выйдет из комнаты, до того как это открывшееся понимание и желание во всем признаться испарится, иначе все это превратится в ночное сновидение, от которого он проснется утром со смутным ощущением забытого знания. Он держится за свое извинение, как за воздушный шарик с гелием: веревочка вот-вот соскользнет с запястья и шарик скоро превратится в точку в стратосфере. Надо сказать сейчас, другого случая может не быть.
— Прости.
Но его голос, такой же истончившийся и ослабевший, как и он сам, заглушается маской и жужжащим, точно пылесос, БиПАПом.
— Спокойной ночи, — говорит она.
Карина выключает телевизор и свет и, оставляя дверь приоткрытой, исчезает из комнаты, так и не услышав его, так ничего и не узнав.
Отработав утреннюю смену, Билл заходит в залитую солнцем, но зябкую гостиную, оставляя дверь в кабинет открытой нараспашку. Это смущает, даже беспокоит Карину, которая, свернувшись калачиком на диване и укрывшись одеялом, допивает вторую за утро кружку горячего кофе. Она будто бы увидела чужую кровать незаправленной или тюбик зубной пасты без колпачка. Вид дверного проема раздражает Карину, точно назойливый зуд, который она не может унять. Она не держит дверь в бывший кабинет распахнутой, хотя и не закрывает ее так плотно, как хотела бы, чтобы не запереть внутри Ричарда, но между ними должна присутствовать хоть какая-нибудь физическая, видимая преграда. Карина оставляет эту дверь приотворенной, и этого достаточно, чтобы создать подобие отдельного, личного пространства. Так для нее безопаснее. Не желая признаваться Биллу в своем, возможно диагностируемом, навязчивом состоянии, она после его ухода прикроет дверь в кабинет, оставив крошечный зазор. А потом наконец-то примет душ.
Карина уже представляет себе их ежедневный ритуал прощания, пока Билл проверяет сообщения на телефоне. Закончив, он поднимает на нее глаза, но вместо того, чтобы открыть ей свои дежурные приободряющие объятия и чмокнуть в щеку, стоит на месте, скрестив руки и изучая Карину, как если бы она была неподдающейся задачкой по математике или предметом искусства, который вроде как задевает его, но он не совсем понимает почему.
— Ладно, подруга, мои час тридцать только что отменились. Кенсия побудет здесь с Ричардом. А мы с тобой идем пить кофе.
— Если хочешь кофе, могу заварить.
— Не надо. Я вытаскиваю тебя из этого дома. Как раз поболтаем.
— О чем?
— О тебе, — говорит он с твердостью и заботой в голосе.
— Обо мне? — Она вдруг смущается своих взлохмаченных после сна волос, треников, отсутствия лифчика под футболкой и какой-либо косметики на лице, да и