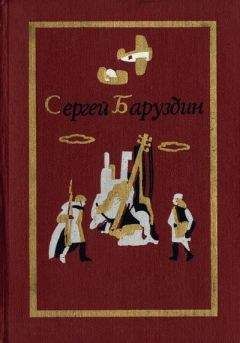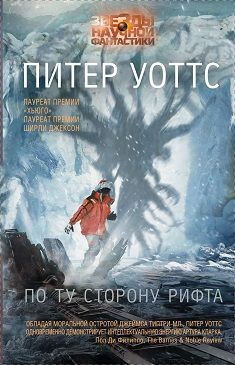близости фронта, не то обещанной норме.
— Пошли и правда погуляем. Центра мы так и не видели, — подтвердил Саша.
Пошли к центру, хотя и не знали, где он находится. Ориентировались по высокой макушке костела, которая хорошо была видна со всех сторон.
— Где костел, там и центр, — пояснил Саша. — Пошли!
Саше я привык верить с первого слова. Он много знал, и, может быть, я даже завидовал ему.
— Веди, Иван Сусанин, — согласился Володя.
Каких все-таки разных людей собрала война. Вот Саша — умный, тактичный и честный в суждениях. Не будь войны, мы, возможно, так и не познакомились бы друг с другом, хотя и ходили в один Дом пионеров. Выросли бы, разошлись в разные стороны и никогда бы не встретились. А сейчас дружим, хотя я вовсе не такой, как Саша.
В первый год нашей службы в армии Саша больше всех отсидел на «губе» и наряды вне очереди получал чаще других. И не из-за себя. Саша вступал в любой спор и разговор, когда ему что-то казалось несправедливым. Придрался сержант или старшина к курсанту, придрался ни за что, — Саша тут как тут. Приказ командира — закон, но для Саши эта формула существовала только в одном понимании: справедливый закон. И нередко было так, что тот, кого защищал Саша, отделывался простым замечанием, а Саша, вступившийся за него, шел на «губу» или отправлялся чистить уборную — самое незавидное дело. И все же постепенно Саша завоевал авторитет. Как раз тем завоевал, что был прям и честен и не боялся оставаться таким всегда и во всех обстоятельствах. Он стал даже комсоргом.
И у Володи был авторитет. Его любили за простоту и балагурство, за силу и… не знаю, за что еще.
А я? Я тоже немало отсидел на гауптвахте и тоже получал наряды вне очереди, а потом стал приличным курсантом, но не обладал и долей того авторитета, который был у Саши. А если и был у меня сейчас какой-то авторитет, то он — часть Сашиного. Все знали, что мы дружим, и дружим крепко. Одни шутили: «Три мушкетера!» Другие: «Святая троица!»
И с Сашей, и с Володей я чувствовал себя легко и просто.
А впрочем, разве только с ними? Я не представлял себя сейчас не только без Саши и Володи, но и без Шукурбека, без Макаки — Вити Петрова, без других ребят, с которыми свела нас война.
Пожалуй, раньше я никогда не присматривался так к людям. Люди были разными, и я принимал их всегда такими, какие они есть. Но, может быть, именно теперь я подумал, что разные люди — это разные человеческие качества внутри каждого человека. Наверно, нет людей целиком хороших или целиком плохих. В каждом человеке есть и хорошее, и плохое, и всякое. И уже от самого человека, если он — человек и умеет управлять собой, зависит, какие качества в нем берут верх…
Звуки траурного марша мы услышали издали, не успев дойти до центра города. Марш был знакомый с детства, когда по Москве еще ходили похоронные процессии — могучие белые катафалки и белые лошади с траурными попонами. Когда-то мальчишками мы бегали за этими процессиями и порой сопровождали их через весь город до крематория или кладбища.
— Хоронят кого-то. Пойдем посмотрим, — предложил Володя.
Мы действительно бросились на звуки музыки, как это делали четыре-пять лет назад в Москве.
— Марш-то шопеновский, — сказал на ходу Саша. — Может, кого из поляков?..
— А почему ты считаешь, что шопеновский?
Я не знал, что этот марш шопеновский, и вообще не предполагал, что Шопен писал траурные марши, но признаться Саше в своей музыкальной серости не решился.
Мы спешили и вскоре оказались на площади возле костела. Хронили не поляка, хотя за полуторкой с открытыми бортами, на которой без гроба на хвойных ветках лежал покойник, вслед за военным оркестром шли рядом с нашими командирами польские офицеры и многие поляки в штатском. Лица покойника я издали не разглядел, но форму на нем увидел. На медленно двигающейся машине лежал наш офицер, с крутым белым лбом и темными волосами. Ветерок развевал его волосы, и шедшая рядом девушка в гимнастерке несколько раз поправляла их рукой.
Процессия осторожно огибала скверик, где по кучам свежевырытого песка угадывалась открытая могила.
Когда мы подошли ближе, машина остановилась у входа в сквер.
Звуки марша стихли. Вдруг над площадью зазвучала необычная мелодия. Я никогда еще не слышал такой музыки и невольно обернулся в сторону костела. Это был не оркестр, а какой-то один могучий инструмент, изливавший величественную скорбную мелодию. Казалось, что поет само здание костела — высокое, темное, загадочное в своей одинокой недосягаемости. Тоскливые и одновременно торжествующие, раздирающие душу и успокаивающие, нежные и громовые звуки вырывались из дверей и окон костела, гремели где-то под его сводами и потом заполняли площадь.
— Это Польша провожает капитана Смирнова, — сказал на чистом русском языке, обращаясь к нашему полковнику, польский офицер. — Жители Лежайска никогда его не забудут.
— Да, — тихо согласился полковник, — Геннадий Васильевич много сделал и для нас и для вас. Как говорится, всем бы нам так…
Геннадий Васильевич! Меня словно подтолкнул кто-то вперед. Я протиснулся к машине и через плечи стоявших впереди офицеров и штатских увидел лицо покойника. Неужели это был он, Геннадий Васильевич, секретарь нашего райкома комсомола, вручавший мне в октябре сорок первого комсомольский билет? Он! Конечно, он!
Как же это? Я не знал никаких подробностей о гибели капитана Смирнова и вообще ничего не знал о Геннадии Васильевиче. Три года — это много, а на войне — очень много. Он, отправлявший на фронт других, теперь погиб сам, и вот его хоронят на далекой польской земле, и над ним стоят офицеры, русские и поляки.
Когда смолк оргáн, полковник сказал несколько прощальных слов. Потом сняли тело Геннадия Васильевича с машины и осторожно положили на край неглубокой могилы. Кто-то тихо произнес:
— Прощай, Гена!
Потом я заметил девушку в гимнастерке, которую видел несколькими минутами раньше. Она склонилась над Геннадием Васильевичем и опять поправила его волосы. Сейчас я видел лишь ее руки — правую на лице капитана и левую со стиснутой ушанкой.
Я не мог рассмотреть ее лица, скрытого чужими спинами, но невольно подумал о том, кто она. Вероятно, жена… А может, сестра… Ведь бывает же так на фронте.
Мужчины подняли тело капитана и опустили его в могилу, и в ту же минуту девушка быстро направилась мимо меня к выходу из скверика.