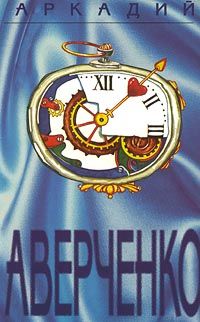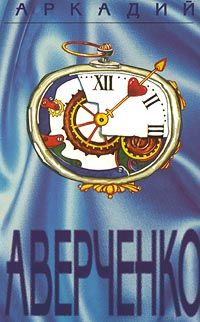— Ну, пойдем же, пойдем скорее!
V
В последующие дни я только и делал, что, бегая от одного к другой, энергично подогревал состряпанное мною кушанье.
Ей я сообщил, что две русских дамы, жившие в соседнем отеле, осаждают его письмами и делают тысячу безумств ради того только, чтобы увидеть его с улицы из-за решетки сада нашего отеля.
А ему намекнул, что один венгерский граф поклялся добиться ее благосклонности и осыпает ее морем цветов (вчера я, действительно, послал ей букетик ценою в 3 лиры), но что она эти цветы выбрасывает (выбросила: они к вечеру совершенно завяли).
Моя стряпня закипела и забурлила. Мутная накипь ревности поднялась кверху, и мне нужно было зорко следить за тем, чтобы во время снимать эту отвратительную накипь.
Утром венгерка устроила русскому сцену, в обед он ей; а вечером в парке при отеле у них состоялось первое свидание, на котором они преотчаянно целовались. (Я видел это в бинокль из окна моей комнаты).
Красавица итальянская ночь, пряная, душная, и бродячие, сладкоголосые музыканты с гитарами — были моими надежнейшими помощниками.
Поверите ли вы: через месяц они уже обвенчались, эти люди, которые без меня так-бы и прошли свой жизненный путь, даже не подозревая о существовании друг друга… а через полтора года исполнилось и то, к чему я вел их под диктовку моего друга — апологета и поклонника судьбы. Именно — у этих двух людей родился ребенок — вот этот самый мальчишка, которым вы давеча так восхищались. Ну, не прав ли я был, говоря, что я — настоящий создатель этого голубоглазого существа!?
Молчавшая все время в продолжение рассказа, желтая простыня шевельнулась и спросила:
— О каком это вы мальчишке говорите?
— Да, о том самом! В синем полосатом костюмчике-то.
— О том, который сейчас сует себе в рот сачок для крабов?
— Ну, да!
— Которого полька сейчас дернула за ухо?
— Ну, да-же!
— Угу, — неопределенно промычало что-то под желтой простыней. — Так знаете ли, что я скажу вам: напрасно вы совались на амплуа судьбы — вершительницы всех дел человеческих. Не по плечу это вам!
— О, Господи! Почему?!
— Вам можно доверить кое-что? Умеете вы держать язык за зубами?
— Ну?!
— Этот ребенок не мужний, а мой. От меня. Через три месяца после свадьбы „венгерка“, как вы ее называете, охладела к своему худосочному супругу и подарила своею любовью меня. Вот вам и судьба!..
— Вы даете честное слово?
— Даю честное слово.
И обе фигуры погрузились после этого в безмолвие — и та, что под белой простыней, и та, что под желтой. Замерли под зноем, даже не пошевельнувшись.
Я в это время успел уже одеться и ушел, так и не увидев никогда больше людей под простынями — ни самоуверенного заместителя судьбы, ни его соперника на этом скользком поприще.
Боже мой! Может быть, если бы я и поднял эти две простыни — желтую и белую — под ними-бы ничего не оказалось, кроме бесформенных груд песку, насыпанного подвижным отпрыском многолюбивой венгерки, потому что — мало ли что может пригрезиться расплавленному свирепым солнцем мозгу…»
I
Восемь лет тому назад мне пришлось прожить около двух недель в одном из небольших городков Харьковской губернии — именно, в Змиеве.
Жить пришлось у сиделицы казенной винной лавки, бойкой расторопной женщины, которая делала десяток дел сразу — успевая продавать меланхоличным змиевским пьяницам водку, готовить мне обед и, кроме того, в промежутках ругательски-ругать своего сына Стешу.
Стеша был молодец девятнадцати лет, всю свою недолгую жизнь пробродивший из угла в угол, самоуглубленный дурень, ленивый, как корова, и прожорливый, как удав.
С утра, восстав от сна, он умывался, аккуратно напивался чаю, и опять ложился на диван — неофициально, — как он говорил. Так, лежа на диване и перелистывая «Ниву» за 1880 год — ждал обеда.
— Ты хоть бы чем-нибудь занялся! — кричала сиделица винной лавки, выглядывая изредка из дверей.
— А чем я займусь там, — возражал Стеша хриплым голосом.
— О, Господи! Другие люди, как люди! Служат, дело делают, а этот, как колода!.. Нислимо ли это — здоровый молодой человек, и целыми днями диваны протирает!
— «Нислимо!» — сурово сипел Стеша. — Говорить бы, как следует, по-русски выучились!
— Убирайся отсюда, с дивана! Это что еще такое за моду выдумал — по диванам разлеживаться. Все соседы с тебя смеются!..
— «Соседы!» Не умеете говорить, так молчали бы.
— То-то вот нам, неумеющим, и приходится кормить вас, умеющих-то? Профессор какой? Пошел прочь с дивана
Подбоченившись она наступала на Стешу. Когда же слова не помогали, она схватывала его за руку и сбрасывала с дивана на пол.
Он тяжело шлепался, вставал, забирал свою «Ниву» и, мурлыча какой-то бессмысленный мотив, хладнокровно переходил на крылечко, выходившее на засоренный, залитый помоями двор.
— Хоть бы за что-нибудь ты взялся, чучело ты разнесчастное. И как это так человек жить может?
— Тюр-лю-лю, пам-пам-пам, — тянул лениво Стеша, перелистывая осточертевшую и ему самому и окружающим — «Ниву» за 1880 год.
Перелистав «Ниву», Стеша съедал кусок черного хлеба с салом, выпивал чудовищную жестяную кружку воды и заходил ко мне «поговорить».
— Что скажете, молодой человек? — спрашивал я его, откладывая начатое письмо или книгу.
Он садился верхом на стул, шлепая для развлечения ладонью по спинке его и изредка поглядывая на меня с той сосредоточенностью, которая была ему свойственна.
— А что, — спрашивал он меня после долгого молчания, — Правда, что в Петербурге пешком по улицам нельзя ходить?..
— Почему?
— Такое там движение на улицах, что сейчас же задавят.
— Это верно, — подтверждал я. — Там даже на каждой улице ящики такие устроены…
— Для чего?
— А чтоб задавленных складывать, пока родственники ни разберут.
— Да ну?
— Уверяю вас.
— Да ведь дорого…
— Что дорого?
— На извозчиках все время ездить.
— Что ж делать. Кому дорого, того и давят.
Похлопывая ладонью по спинке стула, он принимался тянуть свой непонятный мотив: «тюр-лю-лю, пам-пам-пам»…
— А правда, что в Петербурге в театрах совсем голых женщин показывают?
— Правда.
— Да как же так полиция позволяет?
— А ей-то что? Это здесь только и то стыдно, и это стыдно. А там в столице на это смотрят спустя рукава.
— Да ну?
— Вот вам и «ну».
— Тюр-лю-лю, пам-пам-пам! А скажите, правда вот, что говорят в ресторане там, если поужинать, — так рублей сорок за это берут.
— Сорок? Слишком вы дешевы, молодой человек… И триста заплатите, если не все пятьсот.
— Да ну? За то там и жалованье получают, небось, большое?
— Да уж… Конечно, маленький писец получает пустяки, рублей двести-триста в месяц… а кто повыше — восемьсот, и тысячу, и две. Нищему меньше рубля не дают. За то и нищие есть, которые на Невском по три дома имеют.
Получив на все свои вопросы точные обоснованные ответы, юноша Стеша, без всякого признака удивления на лице, уходил, волоча ноги и напевая «тюр-лю-лю, пам-пам-пам!». Заходил в винную лавку и торопил мать насчет обеда.
Однажды, он пришел ко мне и, вместо того, чтобы расспрашивать меня о Петербурге, разоткровенничался сам:
— А я вчера анекдот слышал: один жид пришел по делам к помещику, а тот схватил ружье и говорит: «плавай, жидовская морда, а то застрелю!» Ну, жид, конечно, испугался, упал на землю и сделал вид, будто плавает. А потом помещик засмеялся и сказал: «Благодари Бога, что я тебя нырять еще не заставил!». Здорово, а?
Я пожал плечами.
— Серо!
— Как вы говорите?
— Серо.
Стеша удивленно взглянул на меня и умолк. Я заговорил о чем-то другом, но он перебил меня:
— Так как вы сказали? «Серо»? Ха-ха!
— Да уж… неважный ваш анекдотец.
— «Серо», значить? Здорово… Ха-ха!
Он потрепал меня по плечу и ушел, волоча за собой громадные, в тяжелых сапогах ноги. На другой день я уехал.
II
И опять, совсем недавно, попал я в Змиев. Над Россией пронеслась революция, в Петербурге уже несколько лет работала Государственная Дума, а Змиев остался таким же… Пыльные безлюдные улицы, выводок цыплят у забора, и одинокий пьяный, лежащий в тени, около бакалейной лавки с вывеской:
«Бакалея с продажей всего».
Лавочник был тот же самый — и узнал он меня сразу же, как только я зашел к нему. Сколько перевидал за эти восемь лет новых людей этот бедняга? Вероятно, не более десятка.
— Опять к нам? — сказал он с такой небрежностью, будто бы я уезжал из Змиева недели на две. — Ну, Что ж… поживите, поживите… У нас тут не скучно.
— А что сиделица, у которой я жил?