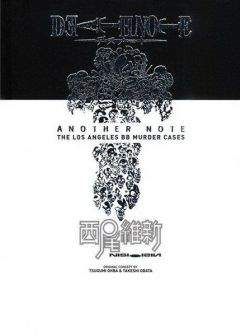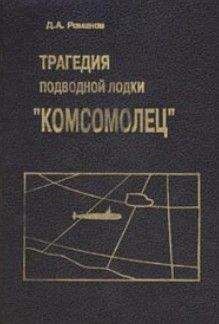Не долечившись, Степан из госпиталя сбежал и ушел биться с белобандитами, потом с уральскими ребятами воевал под командованием Блюхера, там и получил боевой свой орден.
Сколько раз, бывало, сидя у ночного костра и приглядывая за стреноженными конями, думал он о том, как вернется в Питер. Проедет на медленном трамвае через весь город, а может, пойдет пешком - так даже лучше! - и дойдет до их старых бараков за пустырем, увидит мать, Глашу, Кузю, всех ребят! Посидят, пошумят, а потом они с Глахой сбегут потихоньку и до рассвета будут ходить по знакомым улицам, посидят в старом их саду с белой эстрадой-раковиной, постоят у канала.
Подгадать бы приезд к началу лета, чтоб стояли белые ночи, цвела сирень, таяли над головой облака, а краешек солнца окрашивал воду в розовый цвет.
Забраться бы на пустую баржу, что приткнулась к берегу, и тут бы сказать Глаше все те слова, какие он не смог сказать раньше. Сколько он их перешептал, когда думал о ней!
Но с поездкой домой ничего не выходило, отряд их перебросили на Украину, и громил он белополяков уже в Конной армии. И вот теперь он в Москве и сегодня слушал Ленина.
Поезд опоздал чуть ли не на сутки, в общежитие для делегатов Степан даже не зашел, а направился прямо в особняк, где проходил съезд. С трудом пробился в зал, но там яблоку было негде упасть, и как краснознаменца, его пустили на сцену, где стоял стол под красной скатертью, а на всем свободном пространстве вокруг стола, на стульях и прямо на полу сидели делегаты.
Владимир Ильич предупредил, что задержится, приедет прямо с заседания Совнаркома, и, чтобы не пропустить его приезда, на лестнице поставили ребят - сигнальщиков, а в зале пока пели, перекликались, разыскивали разбросанных гражданской войной земляков и товарищей, а больше всего спорили и гадали, о чем будет говорить Владимир Ильич.
Степан сидел у бархатной кулисы на каком-то ящике и, оглушенный и этим шумом и долгой тряской в тесном поезде, думал о том, как бы исхитриться и хоть на денек вырваться в Питер. Он даже чуть вздремнул и открыл глаза оттого, что вокруг него на минуту все затихли.
И увидел Ленина!
Сигнальщики его проморгали, потому что Владимира Ильича провели другим ходом, прямо на сцену, и теперь он стоял перед столом, поглаживал ладонью лоб и ждал, когда утихнут аплодисменты и крики приветствий.
А зал грохотал, отбивал ладони, чуть затихал, когда Ленин поднимал руку, и опять взрывался аплодисментами.
Владимир Ильич вынул из жилетного кармана часы и показал залу: уходит время.
Зал затих, и Ленин начал свою речь. Говорил он не очень громко, но так, что каждое его слово было слышно в самом дальнем конце зала.
Иногда он прохаживался по крохотному пятачку свободного пространства на сцене, опять останавливался, оглядывал притихший зал внимательными глазами и продолжал говорить убежденно и доверительно о самом главном для них, о будущем.
Степан не заметил, сколько длилась ленинская речь, ему показалось, что совсем недолго, но вот уже опять грохотал зал, снова взрывался криками, пением "Интернационала", и, когда проводили Владимира Ильича, никто не расходился, и людской водоворот шумел в коридоре, на лестнице, на улице у подъезда.
Тогда-то и встретил Степан Женьку Горовского.
Какой-то делового вида парень в кепке с огромным козырьком, в потертой кожанке, из карманов которой торчали свернутые газеты, блокноты и какие-то брошюры, толкнул его нечаянно в толчее коридора, обернулся, чтобы извиниться, и остановился, раскрыв рот.
- Степан! - ахнул парень.
- Женька! - узнал его Степан.
Они тискали друг друга, хлопали по плечам, потом, обнявшись, пошли по коридору и уселись на подоконник в более или менее тихом углу.
Женька увидел Степанов орден на красной розетке, поглядел на командирские разводы гимнастерки и поднял кверху большой палец.
- Командарм?
- Комэск, - засмеялся Степан. - А ты?
- Я что? - скромничал Женька. - Редактор газеты.
- А стихи?
- Пишу.
- Лена с тобой?
- Конечно!
Степан глядел на его повзрослевшее лицо, на знакомый хохолок на затылке, заглядывал в его сияющие глаза, радовался встрече и все хотел спросить о самом главном для себя, но отчего-то боялся и ждал, что Женька сам скажет ему о Глаше.
Но Женька о Глаше ничего не говорил, а рассказывал, что Федька в деревне, сбил коммуну, прислал письмо к ним в газету и требует трактор; что Кузьма в Питере, механиком на заводе, а красным директором там Леша Колыванов; а он кивал и все смотрел в Женькины глаза и видел в них то, чего так боялся и о чем не хотел думать.
Степан решился и спросил:
- А Глаха?
- Ты что же? Ничего не знаешь?
- Откуда мне знать? - Голос у Степана дрогнул. - Меня же без сознания увезли... Месяца три, считай, на том свете был! Что с Глахой?
Женька отвернулся и долго смотрел в окно.
- Врешь... - глухо проговорил Степан.
Он схватил Женьку за плечи, повернул к себе, потряс за лацканы куртки и все повторял:
- Врешь! Врешь!
Женька даже не пытался освободиться из Степановых рук и только покусывал губы.
- Когда? - глухо спросил Степан.
- Тогда же, когда тебя ранило.
- И ничего нельзя было сделать?
- Сразу, - опять отвернулся к окну Женька.
- Не верю! - закричал Степан. - Не может быть, чтоб убили! Не верю!.. - И, сутулясь, пошел по коридору...
Это было днем, а сейчас уже вечер, скоро зажгутся фонари на улицах, а он все ходит и ходит по бульварам.
Степан остановился, чтобы закурить, зажег спичку, закрывая ладонями огонек от ветра, и увидел вдруг впереди трех девушек в красных платочках и длинных юбках. Они шли, взявшись под руки, и одна из них пела низким чуть хрипловатым голосом:
На заре туманной юности
Всей душой любил я милую...
Степан рванулся и побежал, разбрызгивая лужи, догнал девчат, крикнул: "Глаха!" - и повернул за плечо ту, что пела.
На него глядели тоже серые, но незнакомые и удивленные глаза, и так же, косыми крыльями, лежали на щеках волосы.
Степан сглотнул горький комок в горле, сказал: "Извините" - и медленно пошел обратно. Он слышал, как они засмеялись и опять кто-то запел, а Степан, почувствовав, что не может идти дальше, опустился на скамью. Так он и сидел, обхватив голову руками, а ветер гнал по бульвару желтыер листья, и они шуршали у него под ногами.
Вот и перелистана последняя страница тетради. Лежит она в музее
рядом с простреленным знаменем, залитым кровью комсомольским билетом,
наганом, хранящим до сих пор следы сгоревшего пороха.
Шестьдесят лет прошло с той поры. Целая жизнь.
Об этом думает, наверное, седой человек, которого я так часто
вижу здесь. Он подолгу простаивает в этом зале, задумчивая улыбка
трогает его губы, молодеют глаза, и, когда приглаживает он
поседевший, но все еще непокорный хохолок на затылке, мне вдруг
кажется, что передо мной Женька Горовский. Когда же он горестно
сутулит плечи и тяжелой ладонью будто обмывает лицо, то чем-то
становится похожим на Федора, каким я его себе представлял.
Скорее всего это ни тот, ни другой. Все комсомольцы тех лет
чем-то похожи друг на друга. Это я заметил давно.
Совсем маленький мальчонка - по всему видно, что внук, - тянет
его к другим стендам, где белозубо улыбается Бонивур, ступает босыми
ногами по снегу Зоя, непримиримо стоят молодогвардейцы, устремляется
ввысь ракета с первым в мире космонавтом, гордым факелом пылает
трактор Анатолия Мерзлова...
Но седой этот человек все стоит и смотрит на пожелтевшую
фотографию, с которой улыбается девушка с большими светлыми глазами и
косо срезанными крыльями волос на щеках.
А я смотрю на него...