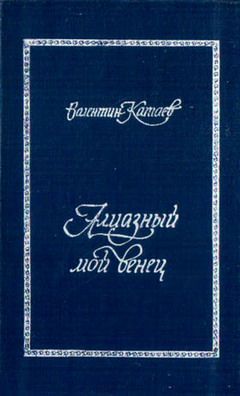Он еще долго держал в руках книжки, боясь с ними расстаться. Наконец он вышел из магазина еще более мешковатый, удрученный.
На балконе безвкусного особняка в стиле московского модерна миллионера Рябушинского против церкви, где венчался Пушкин, ненадолго показалась стройная, со скрещенными на груди руками фигура Валерия Брюсова, которого я сразу узнал по известному портрету не то Серова, не то Врубеля. Ромбовидная голова с ежиком волос. Скуластое лицо, надменная бородка, глаза египетской кошки, как его описал Андрей Белый. Он еще царствовал в литературе, но уже не имел власти. Время символизма навсегда прошло, на нем был уже не сюртук с шелковыми лацканами, а нечто советское, даже, кажется, общепринятая толстовка. Впрочем, не ручаюсь.
Оставив будетлянина в вестибюле внизу на диване, среди множества авторов с рукописями в руках и строго наказав ему никуда не отлучаться и ждать, я помчался вверх по широченной, манерно изогнутой лестнице с декадентскими, как бы оплывшими перилами, украшенными лепными барельефами символических цветов, полулилиямиполуподсолнечниками, и, несмотря на строгий окрик барышни-секретарши, ворвался в непотребно огромный кабинет, где за до глупости громаднейшим письменным столом сидел не Валерий Брюсов, а некто маленький, ничтожный человечек, наставив на меня черные пики усов.
Профессор!
Терять мне в ту незабвенную пору было нечего, и я, кашляя от скрытого смущения и отплевываясь, не стесняясь стал резать правду-матку: дескать, вы издаете халтуру всяких псевдопролетарских примазавшихся бездарностей, недобитых символистов, в то время как у вас под носом голодает и гибнет величайший поэт современности, гениальный будетлянин, председатель земного шара, истинный революционер-реформатор русского языка и так далее.
Я не стеснялся в выражениях, иногда пускал в ход матросский черноморский фольклор, хотя в глубине души, как все нахалы, ужасно трусил, ожидая, что сейчас разразится нечто ужасное и меня с позором вышвырнут из кабинета.
Однако человечек с грозными пиками усов (тот самый литературный критик, фамилию которого Командор так ужасно и, кажется, несправедливо зарифмовал со словом "погань") оказался довольно симпатичным и даже ласковым. Он стал меня успокаивать, всплеснул ручками, захлопотал:
- Как! Разве он в Москве? Я не знал. Я думал, что он где-то в Астрахани или Харькове!
- Он здесь,- сказал я,- сидит внизу, в толпе ваших халтурщиков.
- Так тащите же его поскорее сюда! Он принес свои стихи?
- Да. Целую наволочку.
- Прекрасно! Мы их непременно издадим в первую очередь.
Я бросился вниз, но будетлянина уже не было. Его и след простыл. Он исчез. Вероятно, в толпе писателей, как и всегда, нашлись его страстные поклонники и увели его к себе, как недавно увел его к себе и я.
Я бросился на Мыльников переулок. Увы. Комната моя была пуста.
Больше я уже никогда не видел будетлянина.
Потом до Москвы дошла весть, что он умер где-то в глубине России, по которой с котомкой и посохом странствовал вместе со своим другом, неким художником.
Потом уже стало известно, что оба они пешком брели по дорогам родной, милой их сердцу русской земли, по ее городам и весям, ночевали где бог послал, иногда под скупыми северными созвездиями, питались подаянием.
Сперва простудился и заболел воспалением легких художник. Он очень боялся умереть без покаяния.
Будетлянин его утешал:
- Не бойся умереть среди родных просторов. Тебя отпоют ветра.
Художник выздоровел, но умер сам будетлянин, председатель земного шара. И его "отпели ветра".
...Кажется, он умер от дизентерии.
Впрочем, за достоверность не ручаюсь. Так гласила легенда. Да и вообще вся наша жизнь в то время была легендой.
Затем на некоторое время в комнату на Мыльниковом переулке вселилась банда странных, совсем юных поэтовничевоков, которые спали вповалку на поду и прыгали в комнату в окно прямо с улицы, издавая марсианские вопли.
Они напечатали сборник своих сумбурных стихотворений под названием "Собачий ящик", поставив вместо даты:
"Москва. Хитров рынок. Советская водогрейня".
Один из них носил почему-то котелок.
Хитров рынок был тем самым прибежищем босяков, местом скопления самых низкопробных московских ночлежек, которые некогда послужили материалом для Художественного театра при постановке "На дне".
Я еще застал Хитров рынок, сохранившийся в неприкосновенности с дореволюционных времен.
Помню яркую лунную ночь. Голубое и черное среди опасных закоулков, дряхлых проходных дворов, полуразрушенных домов, этих ни с чем не сравнимых трущоб, населенных болезненными людьми в серых лохмотьях, стариками, чахоточными, базарными проститутками, мелкими рахитичными воришкамидомушниками, беспросветно пьяными, нанюхавшимися кокаина, зеленолицыми, иногда с проваленными носами сифилитиками. Они ютились в ночлежках на нарах, покрытых вшивой, трухлявой соломой. Они как тени бродили среди помоек освещенного луною двора и подбирали какие-то бумажки, принимая их за кредитки.
Это было неописуемо ужасно.
А водогрейня, откуда ничевоки добывали себе бесплатный кипяточек, отбрасывала черную коленкоровую тень, своего навеса на половину зловещей площади, залитой голубым лунным светом, куда не отваживалась заглядывать даже милиция. Это была неуправляемая часть столицы.
Хитров рынок помещался сравнительно недалеко от моих Чистых прудов.
Незадолго до своего конца однажды грустным утром ко мне зашел королевич, трезвый, тихий, я бы даже сказал благостный - инок, послушник. Только скуфейки на нем не было.
- Ты знаешь,- негромко сказал он,- не такой уж я пропащий, как обо мне говорят. Послушай мои последние стихи. Это лучшее, что я написал.
Он подсел ко мне на тахту, как-то по-братски обнял меня одной рукой и, заглядывая в лицо, стал читать те свои самые последние прелестные стихи, которые и до сих пор, несмотря на свою неслыханную простоту, или, вернее, именно вследствие этой простоты, кажутся мне прекрасными до слез.
Всем известны эти стихи, прозрачные и ясные, как маленькие алмазики чистейшей воды.
Не могу удержаться, чтобы не переписать здесь по памяти:
"Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой? Или что увидел? Или что услышал? Словно за деревню погулять ты вышел. И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу... Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым"...
Он читал со слезами на слегка уже полинявших глазах.
Ну и, конечно:
"Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся.
Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый робок и застенчив, по равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый! Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим - что такое? И станцуем вместе под тальянку трое".
Он с таким детским удивлением произнес это "спросим - что такое?", что мне захотелось плакать сам не знаю отчего.
Тогда я не понимал, что это его действительно последнее.
- Знаешь что,- сказал он вдруг,- давай сегодня не будем пить, а пойдем ко мне, будем пить не водку, а чай с медом и читать стихи.
Мы не торопясь пошли к нему через всю по-осеннему солнечную Москву, в конце Пречистенки, мимо особняка, где некогда помещалась школа Айседоры Дункан, и поднялись на четвертый или пятый этаж большого, богатого доходного дореволюционного дома в нордическом стиле, вошли через переднюю, где стояли скульптуры Коненкова - Стенька Разин и персидская княжна, одно время даже украшавшие Красную площадь, гениально грубо вырубленные из бревен,- и вступили в барскую квартиру, в столовую, золотисто наполненную осенним солнцем. Там немолодая дама - новая жена королевича, внучка самого великого русского писателя, вся в деда грубоватым мужицким лицом, только без известной всему миру седой бороды,-налила нам прекрасно заваренный свежий красный чай в стаканы с подстаканниками и подала в розетках липовый мед, золотисто-янтарный, как этот солнечный грустноватый день.
И мы пили чай с медом, ощущая себя как бы в другом мире, между ясным небом и трубами московских крыш, видневшихся в открытые двери балкона, откуда потягивало осенним ветерком.
...и читали, читали, читали друг другу - конечно, наизусть - бездну своих и чужих стихов: Блока, Фета, Полонского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова...
Я даже удивил королевича Иннокентием Анненским, плохо ему знакомым:
"Нависнет ли пламенный зной, бушуя расходятся ль волны - два паруса лодки одной, одним мы дыханием полны. И в ночи беззвездные юга, когда так отрадно темно, сгорая коснуться друг друга, одним парусам не дано".
Мы были с ним двумя парусами одной лодки - поэзии.
Я думаю, в этот день королевич прочитал мне все свои стихи, даже "Радуницу", во всяком случае все последние, самые-самые последние... Но самого-самого-самого последнего он не прочел. Оно было посмертное, написанное мокрой зимой в Ленинграде, в гостинице "Англетер", кровью на маленьком клочке бумажки: