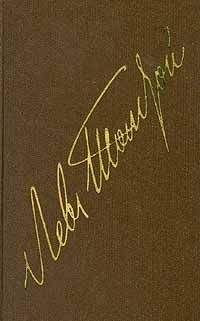— Вы долгонько лечились, — сказал полковник Козельцову, холодно глядя на него.
— Болен был, полковник, еще и теперь рана хорошенько не закрылась.
— Так вы напрасно приехали, — с недоверчивым взглядом на плотную фигуру офицера сказал полковник. — Вы можете, однако, исполнять службу?
— Как же-с, могу-с.
— Ну, и очень рад-с. Так вы примите от прапорщика Зайцева девятую роту — вашу прежнюю; сейчас же вы получите приказ.
— Слушаю-с.
— Потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне полкового адъютанта, — заключил полковой командир, легким поклоном давая чувствовать, что аудиенция кончена.
Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что-то и подернул плечами, как будто ему было от чего-то больно, неловко или досадно, и досадно не на полкового командира (не за что), а сам собой и всем окружающим он был как будто недоволен. Дисциплина и условие ее — субординация — только приятно, как всякие обзаконенные отношения, когда она основана, кроме взаимного сознания в необходимости ее, на признанном со стороны низшего превосходства в опытности, военном достоинстве или даже просто моральном совершенстве; но зато, как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или денежном принципе, — она всегда переходит, с одной стороны, в важничество, с другой — в скрытую зависть и досаду и вместо полезного влияния соединения масс в одно целое производит совершенно противуположное действие. Человек, не чувствующий в себе силы внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными и старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную для себя сторону, — уже за ней, большею частью несправедливо, не предполагают ничего хорошего.
Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться с своею ротой и посмотреть, где она стоит. Бруствера из туров, фигуры траншей, пушки, мимо которых он проходил, даже осколки и бомбы, на которые он спотыкался по дороге, — все это, беспрестанно освещаемое огнями выстрелов, было ему хорошо знакомо. Все это живо врезалось у него в памяти три месяца тому назад, в продолжение двух недель, которые он безвыходно провел на этом самом бастионе. Хотя много было ужасного в этом воспоминании, какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две недели, узнавал знакомые места и предметы. Рота была расположена по оборонительной стенке к шестому бастиону.
Козельцов вошел в длинный, совершенно открытый со стороны входа блиндаж, в котором, ему сказали, стоит девятая рота. Буквально ноги некуда было поставить во всем блиндаже: так он от самого входа наполнен был солдатами. В одной стороне его светилась сальная кривая свечка, которую лежа держал солдатик. Другой солдатик по складам читал какую-то книгу, держа ее около самой свечки. В смрадном полусвете блиндажа видны были поднятые головы, жадно слушающие чтеца. Книжка была азбука, и, входя в блиндаж, Козельцов услышал следующее:
— «Страх… смер-ти врожден-ное чувствие чело-веку».
— Снимите со свечки-то, — сказал голос. — Книжка славная.
— «Бог… мой…» — продолжал чтец.
Когда Козельцов спросил фельдфебеля, чтец замолк, солдаты зашевелились, закашляли, засморкались, как всегда после сдержанного молчания; фельдфебель, застегиваясь, поднялся около группы чтеца и, шагая через ноги и по ногам тех, которым некуда было убрать их, вышел к офицеру.
— Здравствуй, брат! Что, это вся наша рота?
— Здравия желаем! с приездом, ваше благородие! — отвечал фельдфебель, весело и дружелюбно глядя на Козельцова. — Как здоровьем поправились, ваше благородие? Ну и слава богу! А то мы без вас соскучились,
Видно сейчас было, что Козельцова любили в роте. В глубине блиндажа послышались голоса: «Старый ротный приехал, что раненый был, Козельцов, Михаил Семеныч», и т. п.; некоторые даже пододвинулись к нему, барабанщик поздоровался.
— Здравствуй, Обанчук! — сказал Козельцов. — Цел? — Здорово, ребята! — сказал он потом, возвышая голос.
— Здравия желаем! — загудело в блиндаже.
— Как поживаете, ребята?
— Плохо, ваше благородие: одолевает француз, — так дурно бьет из-за шанцов*, да и шабаш, а в поле не выходит.
— Авось на мое счастье, бог даст, и выйдет в поле, ребята! — сказал Козельцов. — Уж мне с вами не в первый раз: опять поколотим.
— Ради стараться, ваше благородие! — сказало несколько голосов.
— Что же, они точно смелые, их благородие ужасно какие смелые! — сказал барабанщик не громко, но так, что слышно было, обращаясь к другому солдату, как будто оправдываясь перед ним в словах ротного командира и убеждая его, что в них ничего нет хвастливого и неправдоподобного.
От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму к товарищам-офицерам.
В большой комнате казармы было пропасть народа: морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки; третьи, составляя самую большую и шумную группу за сводом, сидели на полу, на двух разостланных бурках, пили портер и играли в карты.
— А! Козельцов, Козельцов! хорошо, что приехал, молодец!.. Что рана? — послышалось с разных сторон. И здесь видно было, что его любят и рады его приезду.
Пожав руки знакомым, Козельцов присоединился к шумной группе, составившейся из нескольких офицеров, игравших в карты. Между ними были тоже его знакомые.
Красивый худощавый брюнет, с длинным, сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми сухими пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал прямо и неаккуратно, видимо чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него, по правую руку, лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший, и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтиннику и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный, с потным лицом, офицерик, принужденно улыбался и шутил, когда били его карты; он шевелил беспрестанно одной рукой в пустом кармане шаровар и играл большой маркой, но, очевидно, уже не на чистые, что именно и коробило красивого брюнета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый, с огромным злым ртом, худой и бледный безусый офицер и все ставил ва-банк наличные деньги и выигрывал.
Козельцов выпил водки и подсел к играющим.
— Понтирните-ка, Михаил Семеныч! — сказал ему банкомет. — Денег пропасть, я чай, привезли.
— Откуда у меня деньгам быть? Напротив, последние в городе спустил.
— Как же! вздули, уж верно, кого-нибудь в Симферополе.
— Право, мало, — сказал Козельцов, но, видимо не желая, чтоб ему верили, расстегнулся и взял в руки старые карты.
— Попытаться нешто, чем черт не шутит! и комар, бывает, что, знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости.
И в непродолжительном времени, выпив еще три рюмки водки и несколько стаканов портера, он был уже совершенно в духе Bceгo общества, то есть в тумане и забвении действительности, и проигрывал последние три рубля.
На маленьком вспотевшем офицере было написано сто пятьдесят рублей.
— Нет, не везет, — сказал он, небрежно приготавливая новую карту.
— Потрудитесь прислать, — сказал ему банкомет, на минуту останавливаясь метать и взглядывая на него,
— Позвольте завтра прислать, — отвечал потный офицер, вставая и усиленно перебирая рукой в пустом кармане.
— Гм! — промычал банкомет и, злостно бросая направо, налево, дометал талию. — Однако этак нельзя, — сказал он, положив карты, — я бастую. Этак нельзя, Захар Иваныч, — прибавил он, — мы играли на чистые, а не на мелок.
— Что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право!
— С кого прикажете получить? — пробормотал майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то рублей восемь. — Я прислал уже больше двадцати рублей, а выиграл — ничего не получаю.
— Откуда же и я заплачу, — сказал банкомет, — когда на столе денег нет?
— Я знать не хочу! — закричал майор, поднимаясь. — Я играю с вами, с честными людьми, а не с ними. Потный офицер вдруг разгорячился:
— Я говорю, что заплачу завтра; как же вы смеете мне говорить дерзости?
— Я говорю, что хочу! Так честные люди не делают, вот что! — кричал майор.
— Полноте, Федор Федорыч! — заговорили все, удерживая майора. — Оставьте!
Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того чтобы рассвирепеть окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офицеру.
— Я дерзости говорю? Кто постарше вас, двадцать лет своему царю служит, — дерзости? Ах ты, мальчишка! — вдруг запищал он, все более и более воодушевляясь звуками своего голоса. — Подлец!