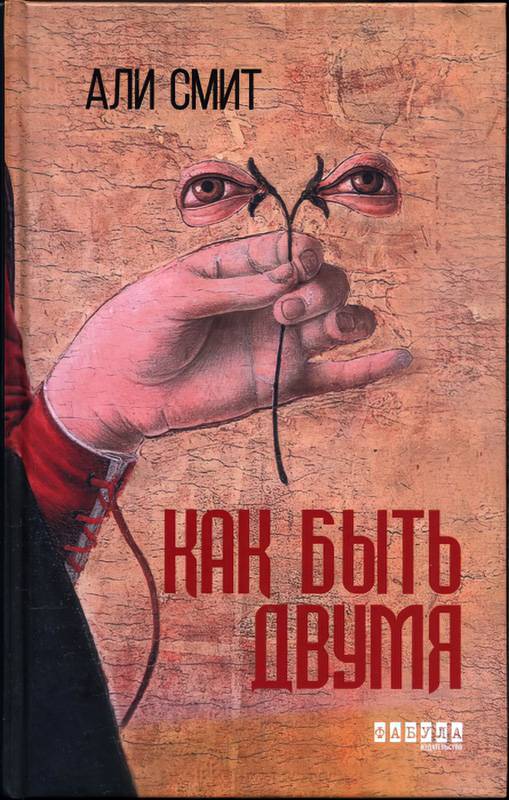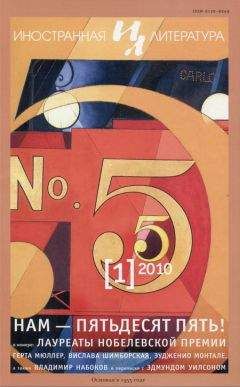они. Эти истории никогда не бывают такими, каких мне на самом деле хотелось бы.
Я готовлю полотно: я молчу: я даю времени пройти: через какую-то минуту он начинает говорить в этой тишине и излагает основную суть этой истории.
Она — о волшебном шлеме, если надеть его, то можно стать кем угодно, приобрести любую форму, какую захочешь.
Но в бешенство его приводит другое: как раз эта часть истории ему нравится: но в ней есть еще одна часть, о трех девах, которые охраняют золотое сокровище, и если кто-то сумеет отнять у них это золото и выкует из него перстень — этот перстень даст ему власть надо всем: над землей: над морем: над миром и населяющими его народами: есть только одна загвоздка: одно условие: тот, кто наденет этот перстень, получит всю власть, но чтобы сохранить ее, должен отречься от любви.
Друг смотрит на меня: он ерзает на табурете: взгляд у него прямой, словно он целится: все, что он не может сейчас произнести вслух, делает его для меня еще красивее.
Я намечаю линией, где будет заканчиваться его плечо, затем скалу, на которую потом посажу рыбака: вон там, под выступом скалы, будут двое детей с острогой: я ставлю пометку там, где его рука будет выходить за пределы рамы: намечаю перстень, который он будет держать в руке.
Я просто не понимаю — почему, зачем, говорит он. Почему тот, кому посчастливится добыть золото и выковать из него волшебный перстень, не может иметь и перстень, и любовь.
Я киваю: я соглашаюсь и понимаю.
Я уже знаю, как будет выглядеть остальной пейзаж за его спиной.
И вот я снова здесь: я, пара глаз и стена.
Мы возле дома, разве я не бывала здесь раньше? Две девушки сидят на коленях на тротуаре.
Старая женщина, наверно, я ее знаю? нет
Вышла и сидит на кирпичной ограде, смотрит на них: они что-то рисуют — яйца? Нет, глаза: они рисуют два глаза на стене: каждая по одному: начинают с черного отверстия, сквозь которое мы видим — зрачок: потом окрашенный кружок вокруг него (голубой): потом белок: потом темный контур.
Старуха что-то говорит им: девушка (кто она?) наклоняется к банке с белилами, тянется вперед, добавляет белую точку величиной с отпечаток кончика пальца, потом делает то же самое на другом глазу: глаз, который не видит, — не является светом, я думаю, что старуха на стене говорит им именно это,
Хотя я почти не слышу, потому что здесь что-то
Что-то
Бог знает что
притягивает меня
кожа моего отца?
глаза моей матери?
туда
вниз, к тоненькой линии
сделанной из ничего
земля и гравий
и совокупность гравия, грязи, земли
и крохотных камешков
они прямо под этой стеной
(к слову, действительно скверно сложенной)
стеной, там, где крошки от кирпичной кладки
встречаются с тротуаром
взгляни
линия, где
одно сходится с другим
мелкие зеленые растеньица, которых почти нет
укореняются в этом
волшебным образом
потому что это заколдованная линия
линия, проведенная между плоскостями
место зеленых возможностей
потому что, что бы они там ни делали
глаза, нарисованные на стене
это — ничто
для крохотных и неисчислимых
вариаций цвета
пока глаз приближается настолько, что
становится частью места
где горизонталь встречает вертикаль
и поверхность — поверхность
и одно сооружение — другое,
которое кажется двухмерным, а на самом деле глубже,
чем
море, если отважиться войти, или
глубоким, как небо, и коренится так глубоко в земле
(цветок сворачивает лепестки, склоняет
головку на стебле)
сквозь слои глины поверх камня,
перемешанные
с червями, через рты которых
все проходит
и еще перемолотые бесчисленными отростками
спор, таких мелких, что они
намного, намного тоньше ресницы
и цвета эти может создать только
тьма
жилы как узор
взгляни
это крепкая ветка
в полном цвету, еще даже до мысли
о стреле
как
корень в темноте прокладывает
свой путь под землей
еще тогда, когда
нет ни признака дерева
еще не лопнула оболочка семени
звезда еще не сгорела
очерк глазницы
еще не родившегося ребенка
здравствуйте, совершенно новые кости
здравствуй, все старое
здравствуй все-все
что будет
созидаться
и исчезать
одновременно.
Задумайся на минуту над этой моральной дилеммой, говорит мать, обращаясь к Джордж, которая сидит на пассажирском сиденье впереди.
Нет, не говорит. Говорила.
Мать Джордж — мертва.
О какой моральной дилемме? спрашивает Джордж. Пассажирское сиденье в арендованной машине — призрачное, оно там, где дома сиденье водителя.
Что-то в этом есть, наверно, от вождения, — только ты, собственно, не за рулем.
Ну ладно. Допустим, ты — художник, говорит мать.
Правда? спрашивает Джордж. С каких это пор? Это что, та самая моральная дилемма?
Ха-ха, отвечает мать. Ну доставь мне такое удовольствие. Просто представь. Вот ты — художник.
Этот разговор происходил год назад, в мае, когда мать Джордж несомненно была еще жива. Не стало ее в сентябре. А сейчас — январь, точнее, только что миновала новогодняя полночь, значит, это год, следующий за тем, в котором мать умерла.
Отца Джордж нет дома. Это лучше, чем когда он торчит на кухне в пьяных слезах или расхаживает по комнатам и включает и выключает все подряд. Генри спит. Она только что сходила проверить, как он там — лежит, мертвый для всего мира, хотя и не настолько мертвый, насколько предусматривает точное значение этого слова — когда оно действительно означает: мертвый.
Это будет первый год, когда на свете нет ее матери — после года до ее рождения. Это настолько очевидная вещь, что даже думать об этом — глупость, но это так ужасно, что и не думать об этом не получается. И то, и другое одновременно.
Как бы там ни было, а в первые минуты нового года Джордж разглядывает текст старой песни. «Let's Twist Again», слова Кела Манна. Слова не слишком удачные. Давай-ка потвистуем вместе, как прошлым летом, как в прошлом году, когда ты хотела…
А дальше вообще никуда не годная рифма, даже, честно говоря, никакая не рифма:
Помнишь ли то лето,
Когда все вокруг гудело…
«Гудело» не рифмуется с «лето», и, честно говоря, было бы правильнее сказать «гремело», знака вопроса в конце нет, и это должно буквально означать: помнишь ли то лето, которое куда-то там загремело?
А потом: танцуем твист, все сейчас для нас, танцуем твист, это наш с