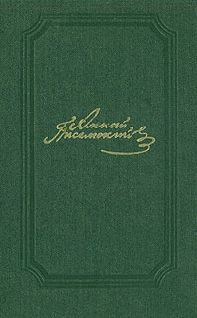- На конопляное семя лучше всего идет птица! - говорил Мучеников.
- Ну нет! Уж это сколько раз испытано было: овсяная крупа скусней для них всего! - возражал ему басом Иосаф.
- Чижу! - возражал, в свою очередь, Мучеников.
- Не чижу, а вообще всякой птице, - говорил настойчиво Иосаф. - У меня, слава богу!.. Я запасся теперь этим добром! - прибавлял он с удовольствием и вытаскивал из кармана целую пригоршню овсяной крупы, которую они с Мучениковым сейчас же разделяли и тут же ее съедали.
Однажды Иосаф как-то особенно таинственно был вызван своим приятелем из класса. Я потихоньку тоже вышел за ними. Сначала они походили по коридору, поговорили между собой о чем-то шепотом и прошли в физический кабинет. Там Мучеников сначала вытащил из своих широчайших штанов какой-то ящичек с дырочками, осторожно открыл его, и из него выпрыгнула мышь на ниточке, потом вынул он оттуда что-то завернутое в бумажку - развернул - оказалось, что это был варганчик, на котором он и начал потихоньку наигрывать, а мышка встала на задние лапки и принялась как бы плясать. Ферапонтов смотрел на все это с пожирающим вниманием. Меня несколько удивило, что такие большие гимназисты и чем занимаются? Сам я, хотя и был гораздо моложе их, давно уже отстал от всяких детских игр и даже презирал ими...
Так дело шло до пятого класса. К этому времени у Иосафа сильно уже пророс подбородок бородою: середину он обыкновенно пробривал, оставляя на щеках довольно густые бакенбарды, единственные между всеми гимназистами. Раз мне случилось, наконец, идти с ним по одной дороге.
- Ферапонтов! Зайдите ко мне, - сказал я почти умоляющим голосом.
- Что? Нет-с! Зачем? - отвечал он.
- Мы покурим, потолкуем.
- Я не курю-с.
- Ничего, вы попробуете! Пожалуйста, зайдемте.
- Пожалуй-с, - проговорил, наконец, Иосаф каким-то нерешительным тоном и зашел, но как-то чрезвычайно робко.
Встретившей нас нашей дворовой женщине Авдотье он поклонился самым почтительным образом, и когда мы вошли в мою комнату, он, кажется, не решался сесть.
- Садитесь, пожалуйста, Ферапонтов, - сказал я и начал старательно выдувать и закуривать для него трубку.
Иосаф два раза курнул и возвратил ее мне.
- Нет-с, горько, я не умею! - сказал он.
- Да вы вот как! - объяснил я ему и, ради поучения его, отчаянно затянулся.
- Я не умею-с, - повторил Иосаф.
Он, видимо, более всего в эту минуту был занят тем, чтобы спрятать под кресло свои дырявые и сильно загрязненные сапоги.
- Послушайте, - сказал я, небрежно разваливаясь на диване, - что вы дома делаете, когда из класса приходите?
- Да что? Уроки учу; ну и по дому тоже кое-что поделаешь.
- А читать вы любите? - спросил я, никак не предполагая, что Иосаф даже не поймет моего вопроса.
- Что читать-с? - спросил он меня самым невиннейшим тоном.
- Повести, романы, вот как этот, - сказал я, показывая на лежавший в то время у меня на столе "Фрегат "Надежда"{447}, который я только что накануне проглотил с неистовою жадностью.
- Нет-с, я не читывал, - отвечал Ферапонтов.
В это время Авдотья подала нам чай. Иосаф вдруг стал отказываться.
- Отчего же вы не пьете? Пейте! - сказал я.
Ферапонтов, конфузясь, взял чашку, проворно выпил ее и, покрыв, возвратил, неловко раскланиваясь перед Авдотьей.
- Кушайте еще, - сказала та, улыбаясь.
Иосаф окончательно растерялся.
- Пейте, Ферапонтов. Налей! - проговорил я.
Иосаф и эту чашку так же поспешно выпил и, закрыв, возвратил, снова расшаркавшись перед Авдотьей.
- Знаете что, Ферапонтов, - сказал я, решившись ни за что не выпускать из рук нового приятеля, - давайте заниматься вместе по-латыни. Вы вот этак заходите ко мне после класса, и мы станем переводить.
- Хорошо-с, пожалуй, - отвечал, подумавши, Иосаф и взялся за фуражку.
Я предложил ему покурить. Он сделал это, кажется, более для моего удовольствия и ушел.
- Что это у вас какой барин-то был? - сказала мне Авдотья после ухода его.
- Что же? - спросил я.
- Да и на барчика-то совсем не похож, словно лакеишка какой, - решила она.
- Напротив, это славный малый! - возразил я и не счел за нужное объяснять ей более.
Дня через два мы принялись с Ферапонтовым за латынь. Оказалось, что в этом деле он гораздо дальше меня ушел. Знания входили туго в его голову, но, раз уже попавши туда, никогда оттуда не выскакивали: все знакомые ему слова он помнил точнейшим образом, во всех их значениях; таблицы склонений, спряжений, все исключения были у него как на ладони.
Меня, впрочем, в Иосафе интересовал совсем другой предмет, о чем я и решился непременно поговорить с ним.
- А что, Ферапонтов, были вы когда-нибудь влюблены? - спросил я, воспользовавшись одним праздничным послеобедом, когда он пришел ко мне и по обыкновению сидел молча и задумавшись. Сам я был в это время ужасно влюблен в одну свою кузину и даже отрезал себе клочок волос, чтобы похвастаться им перед, Ферапонтовым и сказать, что это подарила мне она.
- Были вы влюблены? - повторил я, видя, что Иосаф покраснел и молчал.
- Нет-с, я не знаю этого... не занимаюсь этим, - отвечал он каким-то недовольным тоном и потом сейчас же поспешил прибавить: - Давайте лучше заниматься-с.
Мы принялись. Иосаф начал с невозмутимым вниманием скандовать стихи, потом разбивал их на предложения, отыскивал подлежащее, сказуемое. Перевод он писал аккуратнейшим почерком, раза два принимался для этого чинить перо, прописывал сполна каждое слово и ставил все грамматические знаки.
"Что это, - думал я, глядя на него, - какой умный малый и не понимает, что такое любовь!"
- Вы, Ферапонтов, конечно, в университет поступите? - спросил я его вслух.
- Нет, где же-с! Я состояния не имею.
- Да вам только доехать до Москвы, а там вас сейчас же примут на казну.
- Нет-с, невозможно это... Я несмелый такой! Где мне! - отвечал он и вздохнул.
Вскоре после этого времени с ним случилась по гимназии новая беда. Приятель его Мучеников, и с виду, как мы знаем, довольно суровый, имел при этом решительно какие-то кровожадные наклонности. Не проходило почти ни одной на площади казни, на которой бы он не присутствовал, и обыкновенно стоял, молодцевато подбоченившись рукой, и с каким-то особенным удовольствием прислушивался, как стонал преступник. Во всех кулачных боях между фабричными он непременно участвовал и нередко возвращался оттуда с сильно помятыми боками, но всегда очень довольный. Любимой его прогулкой было ходить на городскую скотобойню и наблюдать там, как убивали скотину. Говорят даже, он иногда сам выпрашивал у мясников топор и собственными руками убивал огромнейших быков.
Не имея, вероятно, долгое время подобных развлечений, он придумал новую штуку: был в гимназии некто маленький и ужасно паршивый гимназистик Красноперов, который, чтобы как-нибудь отбиться от учения, вдруг вздумал притвориться немым: его и упрашивали и лечили; но он показывал только знаки руками, делал гримасы, как бы усиливаясь говорить, но не произносил ни одного звука. Мучеников все это намотал себе на ус и раз, когда они по обыкновению проходили по бульвару с Иосафом домой, впереди их шел именно этот самый гимназистик, очень печальная фигурка, в дырявой шинельке и с сумкой через плечо; но ничто это не тронуло Мученикова.
- Попытаем его! - сказал он вдруг Иосафу, сделав знак глазами.
- Ну нет, что! - отозвался было тот сначала.
- Право, попробуем... - проговорил Мучеников.
Иосаф отвечал на это одной уже только улыбкой, и Мучеников, понагнав Красноперова, стал его приманивать.
- Поди-ка сюда, поди: я тебе пряничка дам! - говорил он, и когда тот, не совсем доверчиво, подошел, он схватил его за шивороток, повернул у себя на колене и, велев Иосафу нарвать тут же растущей крапивы, насовал ее бедному немому за пазуху, под рубашонку, в штанишки, в сапоги, а потом начал его щекотать. Тот закорчился, зашевелился, крапива принялась его жечь во всевозможных местах. Сначала он визжал только на целый бульвар, наконец не вытерпел, заговорил и забранился.
- А! Так ты, бестия, не немой... говоришь! - проговорил Мучеников и затем, дав своей жертве еще несколько шлепков в зад, отпустил.
Несчастный мальчик, забыв всякую немоту, прибежал к отцу и все рассказал. Тот поехал к директору. Мученикова сейчас же исключили из гимназии, а Иосаф спасся только тем, что был первым учеником. Его, однако, сменили из старших и записали на черную доску.
- Зачем вы это сделали? - спросил я его однажды.
Ферапонтов покраснел.
- Так, черт знает зачем! - отвечал он и потом, помолчав, прибавил, щупая у себя голову: - У меня, впрочем, кажется, есть шишка жестокости. Я, пожалуй, способен убить и себя и кого другого.
Взглянув на его несколько сутуловатую и широкоплечую фигуру, я невольно подумал, что вряд ли он говорит это фразу.
В дальнейшем моем сближении с Ферапонтовым он оставался тем же и, бывая у меня довольно уже часто, по-прежнему или коротко или ничего не отвечал на все мои расспросы, которыми я пробовал его со всех сторон, и только однажды, когда как-то случайно речь зашла о рыбной ловле, он вдруг разговорился.