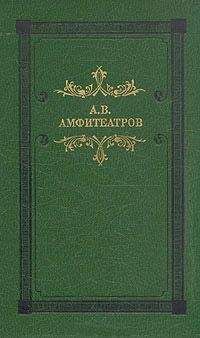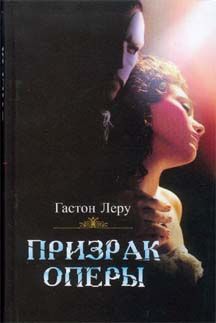летела им вслед безумная декламация и хохот Петрова.
Очутясь в коридоре, Дебрянский огляделся, как после тяжелого сна, и, вспомнив нечто, взял ординатора за руку.
— Степан Кузьмич! — сказал он дружеским и печальным голосом, — зачем вы мне тогда солгали?
Прядильников вытаращил на него глаза:
— Когда?!
— А помните, вот на этом самом месте мы встретили…
— Софью Ивановну Круг. Помню, потому что вам тогда что-то почудилось и вы чуть не упали в обморок.
— Это не Софья Ивановна была, Степан Кузьмич.
Ординатор пристально взглянул ему в лицо.
— Извините меня, голубчик, но вам нервочки подтянуть надобно! — мягко сказал он. — Как не Софья Ивановна? Да хотите, мы позовем ее сейчас, самое спросим.
И он толкнул Дебрянского в боковую дверь, за которою помещалась амбулаторная приемная.
— Софья Ивановна! — крикнул он, отворяя еще какую-то дверь, — благоволите пожаловать сюда.
— Gleich! [3]
Выплыла огромная, казенного образца немка aus Riga [4], с молочно-голубыми глазами и двойным подбородком.
— Вот-с… — показал в ее сторону всей рукою ординатор, — Софья Ивановна! Голубушка! Вы помните, как, с неделю тому назад, встретили меня вот с этим господином возле нумера господина Петрова.
— Oh, ja! [5] — протянула немка голосом сырым и сдобным. — Я ошень помниль. Потому что каспадин был ошень bleich [6], и я ошень себе много удивлений даваль, зашем такой braver Herr [7] есть так много ошень bleich…
— Ну-с? Вы слышали? — засмеялся ординатор.
Дебрянский был поражен до исступления. Свидетельство немки непременно доказывало, что Степан Кузьмич его не морочил, а между тем он присягнуть был готов, что у встреченной тогда дамы был другой овал лица, другие стан, рост…
«Да не столковались же они, наконец, нарочно мистифицировать меня! — подумал он с тоскою, — когда им было, и зачем».
И, вежливо улыбнувшись, он обратился к Софье Ивановне:
— Извините, пожалуйста. Я вот спорил со Степаном Кузьмичом. Мне тогда вы показались совсем не такою.
— О! Я из бань шел, — получил он прозаический и добродушный ответ. — Из бань шеловек hat immer [8] разный лизо, и я имел лизо весьма ошень разный…
Глупая немка, «с весьма очень разным лицом», своим комическим вмешательством в фантастическую трагедию жизни Петрова, так ошеломила и успокоила Дебрянского, что он вышел из лечебницы с легким сердцем, хохоча над своим легковерием, как ребенок. По пути из лечебницы он, пересекая Пречистенский бульвар, встретил сановника-оккультиста. Старичок совершал предобеденную прогулку и заглядывал под шляпки гувернанток и платочки молоденьких нянь, вечно гуляющих с детьми по этому бульвару, решительно без всякого опасения нарваться на какую-нибудь эмпузу или ламию. Дебрянский прошел вместе с ним всю бульварную линию.
— О! — сказал старый чудак, когда Дебрянский, смеясь, рассказал, какую штуку сыграли с ним расстроенные нервы. — О! Вы совершенно напрасно так легко разуверились. Меня эта история только убеждает в моем первом предположении — что вы имеете дело с ламией. Они ужасные бестии, эти ламии, — могут принимать какой угодно вид и форму, когда на них смотрят живые люди… Да! Так что вы, молодой друг мой, несомненно видели не эту толстомясую немку, — которая, впрочем, столь аппетитна, что, я надеюсь, вы не откажете сообщить мне ее адрес! — но ламию, самую настоящую ламию, в настоящем ее виде. А господину ординарцу она представилась немкою… еще раз очень прошу вас: дайте мне ее адрес.
На мгновение Дебрянского как бы ожгло.
«Глупости! — с досадою сказал он про себя, — довольно дурить! Пора взять себя в руки! Что я — семидесятилетний рамолик, что ли, выживший из ума?»
И, расхохотавшись, он завел с генералом фривольный разговор о ламиях, немках и встречаемых гуляющих дамах.
В контору свою Дебрянский уже не пошел. Он очень весело провел день, был в театре, потом поужинал с знакомым в «Эрмитаже» и вернулся домой часу в третьем утра. Уютная холостая квартирка встретила его теплом и комфортом. В спальне, ласково грея, тлел камин. У Дебрянского была привычка — перед сном выкуривать папиросу около огонька. Он разделся и, в одном белье, сел в кресло у камина, подбросив в него еще два полена дров. Огонь вспыхнул, ярко озарил всю комнату красным шатающимся светом. Алексей Леонидович сидел, курил и чувствовал себя очень в духе… Он вспоминал только что виденную веселую оперетку, с примадонною, такою же толстою, как утром немка в лечебнице, с ее очень разным лицом, вспомнил, как глупо мешала она немецкие слова с русскими…
«Уж не умеешь говорить по-русски, — качаясь в кресле, рассуждал он незаметно засыпающим умом, — так говори по-иностранному… иностранные слова… Да!.. цивилизация, поэзия, абрикотин… Тьфу! Что это я?!» — опамятовался он и, встрепенувшись от дремы, подобрал выпавшую было изо рта на колени папиросу, но сейчас же уронил ее снова и заклевал носом.
«А многие есть и образованные, — продолжало качать его, — не знают говорить иностранные слова, — да… цивилизация, Стэнли, апельсин… иностранные… А поэзия это особо… Вавилов, музыкант, „дуэт“ не может выговорить, все на первый слог ударяет… Образованный, иностранный, а не может… дует Глинки, дует Стэнли, апельсинизация… Дует, дует, откуда, зачем дует?.. В коридоре дует… ужасно скверно, когда дует…»
Дебрянский недовольно повернулся в кресле, потому что на него в самом деле потянуло холодком, и слева, откуда дуло, он услыхал, над самым своим ухом, будто кто-то греет руки: ладонь защуршала о ладонь… Он лениво взглянул в ту сторону. На ручке ближайшего кресла — чуть видная в багряном отблеске потухающего камина — сидела маленькая, худенькая женщина в черном и, покачиваясь, терла, будто с холоду, рука об руку.
«Это… та! Немка из лечебницы! — спокойно подумал Дебрянский, — ишь, как иззябла… да, дует, дует… иностранная немка, с весьма очень разным лицом».
Черненькая женщина все грелась и мыла руки, не обращая на Алексея Леонидовича никакого внимания… Наконец она повернула к нему лицо — бледное лицо, с огромными глазами, бездонными, как омут, темными, как ночь… И бледные губки ее дрогнули, и странно сверкнули в полумраке ровные, белые, как кипень, зубы… и раздался голос, тихий, ровный и низкий, точно из-за глухой стены:
— Анною звать-то меня… Аннушка я… мы перемышльские…
Этюд к фантастическому роману «Жар-цвет» (1895).
Печатается по изд.: Амфитеатров А. В. Сказочные были: Старое в новом. Спб., 1904.
Корфу — остров в Ионическом море.
«Лоэнгрин» — опера немецкого композитора Р. Вагнера (1848).
Люэтическая — от слова «люэс» — сифилис.
Ермолова M. H. (1853–1928) — великая драматическая актриса.
Кружок оккультистов. — Оккультизм — учение, признающее существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных для людей, проведших определенную психическую подготовку и овладевших «тайным знанием». В конце XIX в. в России оккультизм привлекал внимание художественной интеллигенции; им интересовались, в частности, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин.
Элифас Леей — французский оккультист, автор книги «История магии» и других трудов по «тайным наукам».
Ламия (греч. мифол.) — коварная женщина-вампир.
Эмпуза (греч. мифол.) — ночной демон; часто являлся в виде прекрасной женщины и душил своих возлюбленных.
Филострат (вт. пол. III в.) — автор религиозно-философского романа «Жизнь Аполлония Тианского», посвященного знаменитому чудотворцу I в. неопифагорейцу Аполлонию.
Сар Пеладан — см. примеч. к рассказу «Черт».
«Эрмитаж» — знаменитый московский ресторан.
Прекрасный Дебрянский (фр.).
Удачи во всем! (фр.).
Сейчас! (нем.).
Из Риги (нем.).
О, да! (нем.).
Бледный (нем.).
Бравый господин (нем.).
Всегда имеет (нем.).