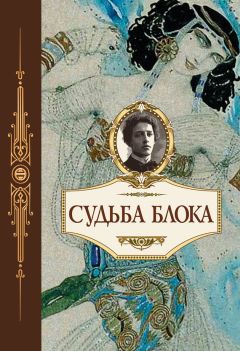- ...Извините.
И тут раздался голос Юрика.
- Машка ни при чем! Этой песне ее научил...
- Этой революционной песне, - перебил Юрика Боцман, - Машку выучил их сосед - старый большевик Соломон Израилевич... Штурман!..
- Революционной??? - насторожился Владимир Павлович.
- А как же? - плывущим баритоном отвечает Боцман. - Если между леди и "простым матросом" развертывается явная классовая борьба?!! Ее еще певали политзаключенные на каторге.
- "Море грозное" - песня недетская! - стояла на своем Евдокия Васильевна. - И вообще, все эти "Моря" развивают у ребят дурной вкус. Борьба борьбой, но зачем же человека за борт выкидывать?..
- Раньше все так делали, - ответил Юрик.
Восторг и полоумие играли в его глазах. Они переглянулись с Боцманом, поглубже вдохнули и запели - к неописуемой радости и облегчению собравшихся (изрядно, как я теперь понимаю, поддатые):
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Выплывают расписные,
Острогрудые челны...
Нет, никогда в жизни мне все-таки не понять, что происходит в мире, в людях, во мне самой. Я вылетела из класса и - побежала вниз по лестнице - в подвал, в раздевалку, а вслед мне гулко неслось по коридорам учебного корпуса:
Одним махом поднимает
Он красавицу-княжну
И за борт ее бросает
В набежавшую волну!..
Сначала я хотела одеться, схватить свой чемодан и, не дожидаясь Юрика, удрать домой, чтоб никогда уже сюда не возвращаться. Наши чемоданы стоят на полках плечом к плечу, подписанные большими печатными буквами. Эти интернатские чемоданы с ума могут свести своими фамилиями: Подкидышев, Ядов, Кащеева, Грущук, Одиноков, Малявка... Имена даются людям не так уж закономерно, а все же с Малявки, наверное, в жизни спрос маленький. Не то что вон чемодан Валерика Могучего. Как быть с такой фамилией? Ведь ей худо-бедно нужно соответствовать. Очень уместно смотрится на чемодане Женькина фамилия - Путник.
Тапочек везде - навалом. Если интернатские тапочки собрать и поставить рядом, то ими можно опоясать земной шар. Вид у них - оторви и брось, непарные, без шнурков. А стоптанные! Ясно, что эти тапки огонь, воду и медные трубы прошли.
Я направилась в глубь подвала. Две красные лампочки в тупике почти не давали света. Они горели, как густые огни концевого вагона в поезде, на котором осенью уехала мама.
Поезд уходил в полночь. Лил дождь. Мама из тамбура нам с Юриком кричит: "Домой!" Проводники светят фонарями на платформу. Из каждой двери поезда рука и фонарь. Вымокший до нитки Юрик ловит на стоянке неостанавливающиеся такси...
К черту чемоданы! Шагать вот так, без чемоданов, легче. Было еще не поздно, хотя уже темнело. Я выбежала во двор - вдохнула и чуть не задохнулась. Теперь мне хотелось холода, так же, как когда-то хотелось тепла. И отныне все будет за меня: снег расстилался передо мной, он падал мне прямо в руки, вчерашние лужи покрылись ледком, земля соскальзывала с орбиты, теряя ось, очертания мира утрачивали свою четкость... Куда мне ехать? Домой? Да есть ли у меня дом?..
Вольному - волю! Мне всегда нравилось болтаться в метро. По сей день, впав в тоску, я спускаюсь в метро. Теплыми и надежными кажутся чужие спины в толпе. За каждую, в случае чего, можно спрятаться, на каждое незнакомое плечо опереться.
А впрочем, я часто сбегала из интерната. Меня даже показывали психиатру. Именно тогда мне поставили этот диагноз - "синдром перелетных птиц", свойственный детдомовцам и старикам в доме престарелых.
Только бы не повстречать никого из знакомых!..
- Знаешь, как надо, чтоб тебя не узнали? - учил меня Женька Путник, проводивший в бегах львиную долю учебного года. - Голову надо наклонить, и тебя не узнают!
Бежать! Сломя голову, всю жизнь, до ночи, до самой старости, пока наконец бесследно не исчезнешь - тогда уж я погорюю как следует!..
А пока во мне бурлило столько надежд, такие радужные открывались перспективы, что, когда я выходила из берегов, сразу - на перекладных катила в Петроверигский переулок, где продавали туристические путевки.
Сам ветер странствий гуляет в коридоре старинного особняка, овевая мое лицо, отовсюду доносятся запахи и звуки путешествий. Я чувствовала морскую зыбь под ногами и брызги соленой воды на лице, гул дрейфующего материка, эонами прокладывающего себе дорогу в океане к неведомым горизонтам, и слушала пенье кузнечиков в крымских сумерках Карадага - в центре Москвы, блаженно прикрыв глаза, в обшарпанном кресле, обитом дерматином.
- Ильмень-озеро, пятьдесят шесть рублей!
- На Ильмене позавчера теплоход затонул!
- Ну и что?! Нравится - плывите!..
Потолкаться в Петроверигском, повариться - глядишь, и успокоилась душа, унялась, можно жить дальше и можно возвращаться в интернат.
Но мне больше нет возврата.
Как в детстве трудно переживать - обиду, страсть, предательство, разлуку. Ведь ничего еще не знаешь, как с этим справиться - ни техники дыхания, ни воинских искусств, ни даосских практик школы Дикого Гуся, ни важности использования секса для укрепления жизненных сил, ни транквилизаторов, ни кокаина, ни "грибов", ни тебе даже выкурить гаванскую сигару и хлопнуть рюмку коньяка!
Пока ты не умеешь хлеб превращать в вино, а вино - в песню, как проходить от пропасти к звездам и добираться до сердцевины тайны? Туда, где торжествует экстаз и вещи сами по себе нереальны, реально лишь пронизывающее их Единое дыхание мира.
- Что? Что тебе посоветовать? - спрашивал у меня Юрик, когда я отчаянно твердила о невозможности для человека находиться больше одного месяца на одном и том же месте. - Хочешь уехать на пароходе "Юность"? Езжай. Если бы был пароход "Старость", я бы тебе не посоветовал!..
Помню, старенький дедушка шел нам навстречу со стаканчиком пломбира. Я попросила мороженого.
- Нет, - ответил Юрик сердито. - Слишком большая очередь. Наверное, этот дедушка встал в нее еще мальчиком.
Ночь я провела в подъезде у теплой батареи. Юрик нашел меня там под утро - спокойно спящей. И хотя только наступала среда, до понедельника он разрешил мне побыть дома.
...Больше я ее не помню. То ли Елена ушла от нас или улетела, то ли просто не помню, хотя она по-прежнему находилась где-то рядом. Память моя избирательна, а ведь я тысячу раз говорила себе: не выбирай, ибо выбирая, ты утрачиваешь.
- Хотели за ней приударить с Боцманом, - сказал потом Юрик. - Ты столько про нее рассказывала хорошего. А после собрания расхотели. Не женщина, а понедельник.
А впрочем, это был невеликий момент, и нет смысла его вспоминать. Случай-то мелкий, пустой. Главное, что в этой битве никто не погиб. К тому ж мне давно знакомо средство для забвения неприятных воспоминаний.
Я посвятила истории о "Море грозном" веселую главу той повести, которую - спустя столько лет - в счастливой картонной папке с надписью "Загогулина" притащила Юле.
И вдруг эту папку (о, совпадения, случайные лишь на первый взгляд, короткое замыкание неизмеримых сил, перекрестки судьбы!..) мне надлежит вручить - то ли сошедшей со страниц моей рукописи, то ли свалившейся с небес - бывшей стюардессе Елене, ночному интернатскому ангелу, на краткий миг осенившему нас крылами, нежданно явившейся передо мною - в натуральную величину, в физическом теле, из плоти и крови.
- Как ты живешь? - спросила Елена, внимательно вглядываясь в мое лицо.
- Да ничего, - ответила я, пытаясь скрыть смятение.
- Ты замужем? У тебя есть дети? ...А моя дочь Даша стала балериной, - с гордостью сказала она. - В Лондонском театре оперы и балета танцует ведущие партии - Жизель, Кармен, Одетту в "Лебедином"...
- Ого! - говорю.
Когда она уходила, унося с собой мою рукопись, я вдруг вспомнила, как Елена коптила мне стеклышко - смотреть на затмение солнца.
Через неделю я встретила Юлю.
- Полный порядок! - сказала она, потирая руки.
И покатилось - редактура, сверка, корректура, верстка, макет... Художника хорошего нашли. Он все звонил мне, спрашивал: чего там больше, в этой моей повести, в процентном отношении - смеха или печали?
- Я постоянно думаю, - он жаловался, Коля его звали, - днем и ночью, все думаю, думаю об одном и не нахожу ответа: в каком ключе рисовать вашу книжку - серьезном или юмористическом?
Спустя два месяца Коля принес иллюстрации. Я онемела, когда их увидела.
Он просто все нарисовал, как это действительно было.
И площадь перед интернатом, и рябиновую рощу, всю сплошь в красных ягодах и черных свиристелях. Оленьи рога, которые ветвились над головой Владимира Павловича, прибитые к стенке гвоздями у него в кабинете. Ветры, гулявшие ночами по лестницам и коридорам интерната, такие буйные, что даже тяжелые гардины в переходе из спального корпуса - с изображением кокосов норовили надуться и парусить. Окно хлеборезки, оттуда всегда запах хлеба какой-то волнующий. И там, над ящиком для горбушек - плакат: "Кто хлебушком не дорожит, тот мимо жизни пробежит!". Горбушками народ набивал карманы и ел их на ночь или на прогулке. Первый снег - как на большой перемене трудовик Витя Паничкин велел его убирать.