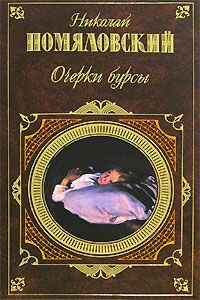Семенов, смотря на играющих в камешки, злорадостно усмехнулся.
– С пылу горячие! – закричал Гороблагодатский.
В его голосе было что-то зловещее. Тавля струсил и побледнел на минуту.
Около стола опять толпа. Опять камень летает в воздухе, но теперь Тавлина рука лежит на столе; напрасно он понадеялся на себя: Гороблагодатский в один прием взял все восемь конов, а Тавля срезался на пятом…
– Конца не будет! – сказал сурово Гороблагодатский.
Тавля видимо трусил. Окружающие не смеялись: они видели, что дело идет не на шутку, что Гороблагодатский мстит.
Дошло до ста. От здоровенных щипчиков вспухла рука Тавли. Он выносил страшную боль, наконец не вытерпел и проговорил просительно:
– Да ну, полно же!..
– После двухсот проси пощады, – отвечал Гороблагодатский.
– Ведь больно!..
– Еще больнее будет.
На сто семидесятом щипке у Тавли рука покрылась темно-синим цветом. Он чувствовал лом до самого плеча…
– Довольно же, Ваня… что же это будет?
Гороблагодатский вместо ответа с ожесточением щипнул Тавлю.
Тавля знал, что слово Гороблагодатского ненарушимо, однако он ощущал до того сильную боль во всей руке, что не мог не просить:
– Оставь… ведь натешился.
– Скажи только слово, еще двести закачу!..
Гороблагодатский дал щипчик более чем с пылу горячий. Тавля не вынес: по щекам его потекли слезы.
Наконец двести.
– Теперь прощенья проси!
Как ни больно Тавле, а стыдно прощенья просить.
– Да ну, оставь же!
– Зачем насмехался давечь?
– Так то ведь шутка!
– Так ты смеешь, животное, надо мной шутить?
Жестоко щипнул он Тавлю.
– Ну прости меня, Ваня…
Гороблагодатскому точно жаль было прекратить мучения ненавистного для него Тавли. Он собрал все силы, и от последнего щипка рука Тавли почернела.
– Будет с тебя. Сыт ли?.. – спросил Гороблагодатский.
Лишь только освободился Тавля, страх в душе его сменился бешенством и злостью.
– Подлец! – проговорил он. – Слышь, не задевай! в зубы съезжу!
– Ты?
– Я.
– А вот и харя, съезди, – сказал Гороблагодатский, подставляя свое лицо…
Тавля забылся в бешенстве и залепил оглушительную плюху своему врагу, но в ответ получил еще здоровейшую. Завязалась драка…
«Так и надо, так и надо!..» – шевелилось в душе Семенова…
Тавля так ошалел от злости, что, несмотря на истерзанную свою руку, не уступал Гороблагодатскому, хотя тот был сильнее его. Злость до того охмелила Тавлю и увеличила его силы, что трудно было решить, на чьей стороне осталась победа… Гороблагодатский затаил и эту обиду в душе. Гороблагодатский после драки пошел к ведру напиться; на дороге ему попался Семенов. Он дал Семенову затрещину и, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. Семенов со злостью посмотрел на него, но не смел пикнуть слова.
Постояв немного посреди класса, Семенов стал бесцельно шляться из угла в угол и между партами, останавливаясь то здесь, то там.
Посмотрел он, как играют в чехарду, – игра, вероятно, всем известная, а потому и не будем ее описывать. В другом месте два парня ломали пряники, то есть, встав спинами один к другому и сцепившись руками около локтей, поочередно взваливали себе не спину друг друга; это делалось быстро, отчего и составлялась из двух лиц одна качающаяся фигура. У печки секундатор, по прозванию Супина, учился своему мастерству: в руках его отличные лозы; он помахивал ими и выстегивал в воздухе полосы, которые должны будут лечь на тело его товарища. На третьей парте играли в швычки: эта деликатная игра состоит в том, что одному игроку закрывают глаза, наклоняют голову и сыплют в голову щелчки, а он должен угадать, кто его ударил; не угадал – опять ложись; угадал – на смену ему ляжет угаданный. Семенов увидел, как его товарищу пустили в голову целый заряд швычков и как тот, вставая, схватился руками за голову.
«Так и надо!» – повторил он в душе и пошел к пятой парте.
Там одна партия дулась в три листика, а другая в носки: известная игра в карты, в которой проигравшему бьют по носу колодой карт.
Семенов перешел к седьмой парте и полюбовался, как шесть нахаживали. Эти шестеро, взявшись руками за парту, качались взад и вперед.
На следующей парте Митаха выделывал богородичен на швычках, то есть он пел благим гласом «Всемирную славу» и в такт подщелкивал пальцами. Тут же Ерундия (прозвище) играл на белендрясах, перебирая свои жирные губы, которые, шлепаясь одна о другую, по местному выражению, белендрясили. Третий артист старался возможно быстро выговаривать: «под потолком полком полколпака гороху», «нашего пономаря не перепономаривать стать», «сыворотка из-под простокваши».
Наконец Семенов пробрался до стены. Здесь Омега и Шестиухая Чабря играли в плевки. Оба старались как можно выше плюнуть на стену. Игра шла на смазь. Шестиухая Чабря плюнул выше.
– Подставляй! – сказал он, расправляя в воздухе свою пятерню.
Омега выпятил свою лупетку (лицо).
– Надувайся! – сказал Чабря.
Омега надул щеки.
– Шире бери!
Омега до того надулся, что покраснел.
– Верховая, – начал Чабря, прикладывая свою руку ко лбу Омеги, – низовая, прикладывая к подбородку, – две боковых, – прикладывая к одной и другой щеке. – Надувайся! Омега надулся.
– И всеобщая! – торжественно вскрикнул Шестиухая Чабря.
После этого он забрал лицо Омеги в пясть, так что оно между пальцами проступило жирными и лоснящимися складками, и тряс его за упитанные мордасы и кверху и книзу.
Семенову было скучно. Он не знал, что делать…
– Леденцов, пряников! Пряников, леденчиков!
Это был голос Элпахи, который обыкновенно торговал пряниками и леденцами, от чего получал немалую выгоду, потому что покупал фунтами, а продавал по мелочи.
Семенов очутился около него.
– На сколько? – спросил Элпаха, оглядываясь вокруг и около, потому что товарищество запрещало говорить с Семеновым, но купецкая корысть Элпахи взяла свое.
– На пять копеек.
– Деньги?
– Вот!
– Держись.
– Что ж ты обсосанных даешь?
– Лучший сорт.
– Перемени, Элпаха.
– Леденчиков, пряников! – закричал Элпаха, отворачиваясь в сторону.
Семенов, держа на ладони, рассматривал леденцы, не зная, съесть их или бросить, и уже решился съесть, как кто-то сзади подкрался, схватил с руки лакомство и быстро скрылся. Семенов со злобой посмотрел на товарищей, но бессильна была его злоба, и в то же время одурь брала его от скуки.
– Давай играть в костяшки, – сказал ему Хорь.
Семенов сам удивился, что с ним заговорил товарищ. Он недоверчиво смотрел на Хоря.
– Что гляделы–то пучишь? не бойся!
– Надуешь…
– Ну вот дурак… что ты!
– Побожись.
– Ей-богу, вот те Христос!
– Право, не надуешь?
– Побожился! чего ж тебе еще?
– Ну ладно, – ответил Семенов, от души обрадовавшись, что с ним заговорило живое существо, хоть это живое существо и было Хорь.
В училище была своя монета – костяшки от брюк, жилетов и сюртуков. За единицу принималась однодырочная костяшка; две однодырочных равнялись четырехдырочной, или паре, пять пар куче, или грошу, пять куч великой куче. Костяшки имели цену, определенную раз навсегда, и во всякое время за пять пар можно было получить грош. Огромное количество костяной монеты обращалось в бурсе. Ею платили при игре в юлу и в чет-нечет. Бывали владетели сотни великих куч и более; их можно узнать по тому, что они всегда держат руку в кармане и роются там в костяном богатстве. Употребление костяной монеты породило особого рода промышленников, которые по ночам обрезывали костяшки на одежде товарищей или делали это во время классов, под партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуков.
Хорь был один из таких промышленников. У Хоря ничего не было своего – все казенное, и если бы не казна, вы увидели бы в лице его возможность на Руси совершенно голого человека. У него почти никогда не водилось денег. В продолжение семи лет у него не перебывало и семи рублей, так что настоящая монета для него была менее действительна, чем костяшки. Это был нищий второуездного класса, и мастер же он был кальячить. Узнав, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, он приставал к нему как с ножом к горлу, канючил и выпрашивал до тех пор, пока не удовлетворят его желание Будучи без роду и племени, круглый сирота, он безвыходно жил в училище, на каникулы никогда не ездил и до того втянулся во все формы бурсацкой жизни, что, кроме ее, другой не существовало для него. Только в каникулярное время посещал он базар соседний, реку да лес: здесь был конец его света. Учиться Хорь терпеть не мог, но учился, потому что не мог терпеть и розги: из двух зол (а бурсацкое ученье – зло) приходилось выбирать меньшее. Он был страстный игрок в костяшки; но, наживши кое-как великую кучу, он либо выменивал ее на деньги и проедал их с жадностью нищего, либо опять проигрывал, потому что играл не совсем счастливо. Тогда с перочинным ножом он промышлял под партами, либо по ночам под подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища таким образом он спорол с одежды все костяшки, так что не на что было застегнуться – все валилось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдов, первый силач класса, во время урока, при учителе, поймал его за волоса под партой и задал ему волосянку. Просить пощады нельзя было: заметит учитель. После долго смеялись над Хорем, говоря, что у него волоса распухли. Теперь у Хоря только и было полпары, то есть однодырочная.