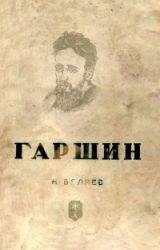— Мне кажется, Василий Петрович, что нехорошо, что он живет с вами.
— Конечно, нехорошо, да кто же мог предвидеть это? Нам с сестрой эта квартира велика: одна комната остается лишняя — отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне, по правде сказать, и на нее досадно: ну чем Кузьма хуже ее! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты; мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой, они скоро придут.
— Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте!
Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна с принужденно-сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня.
* * *
Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок… Двенадцать тысяч… Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составится дорога в восемь верст… Что же это такое?
Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли… я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно — гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее… Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом.
* * *
Трус я или нет?
Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела?
Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, — правда, немногие, — в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня…
* * *
Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв — валящиеся ряды людей; перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той жетнету-щей мысли.
Вчера вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо.
— Что с тобой? — спросил я его.
Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить.
— У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, — сказала Марья Петровна. — Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался, а теперь вот до чего дошло.
— Доктор сейчас приедет; я заходил к нему, — сказал Василий Петрович.
— Очень нужно было, — процедил сквозь зубы Кузьма.
— Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается?
— Чем бы ни кончилось, все равно, — пробормотал Кузьма.
— Вовсе не все равно, Кузьма Фомич; не говорите глупостей, — тихо сказала Марья Петровна.
Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение, и это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьезно смотрела на Кузьму.
Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор, большой весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное веселое выражение лица переменилось на озабоченное.
— Пойдемте, пойдемте в вашу комнату; мне нужно хорошенько осмотреть вас.
Я пошел за ним в комнату Кузьмы. Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.
— Ну-с, вы извольте лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? — спросил доктор.
— Есть, я думаю, — ответил Кузьма недоумевающим тоном.
— Я попросил бы их, — сказал доктор, любезно обращаясь ко мне, — с этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь новое, приехать за мной.
Он вышел из комнаты; Львов пошел проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то вполголоса, а я пошел к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другою ложечку в чашке с чаем.
— Доктор приказал дежурить около Кузьмы.
— Разве в самом деле есть опасность? — тревожно спросила Марья Петровна.
— Вероятно, есть; иначе зачем были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна?
— Ах, конечно нет! Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдемте к нему; ему ведь очень скучно лежать одному.
Кузьма встретил нас, улыбнувшись, насколько ему позволила опухоль.
— Вот спасибо, — сказал он: — а я думал уж, что вы меня забыли.
— Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем: нужно дежурить около вас. Вот до чего доводит непослушание, — улыбаясь, сказала Марья Петровна.
— И вы будете? — робко спросил Кузьма.
— Буду, буду, только слушайтесь меня.
Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия.
— Ах, да, — сказал он вдруг, обращаясь ко мне: — дай мне, пожалуйста, зеркало: вон на столе лежит.
Я подал ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело, и, несмотря на то, что мы втроем старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова.
* * *
Сегодня мне наверно сказали, что скоро потребуют ополченцев; я ждал этого и не был особенно поражен.
Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь, мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состоя в то же время на службе. Меня «пристроили» бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам, а во-вторых, что-то, не подчиняющееся определению, сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. «Нехорошо», — говорит мне внутренний голос.
* * *
Случилось то, чего я никак не ожидал.
Я пришел сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами.
— Что такое, Марья Петровна, что с вами?
— Тише, тише, пожалуйста, — зашептала она. — Знаете, ведь все кончено.
— Что кончено? Не умер же он?
— Нет, еще не умер… только надежды никакой. Оба доктора… мы ведь другого позвали…
Она не могла говорить от слез.
— Подите, посмотрите… Пойдемте к нему.
— Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы. его совсем расстроите.
— Все равно… Разве он уже не знает? Он еще вчера знал, когда просил зеркало; ведь сам скоро был бы доктором.
Тяжелый запах анатомического театра наполнял комнату, где лежал больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обозначились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь; лицо его приняло скверный земляной оттенок и было липко и влажно.
— Что с ним? — спросил я шепотом.
— Пусть он сам… Оставайтесь с ним, я не могу.
Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий, а я сел около постели и ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате; только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выстукивали свою негромкую песенку да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его; не то чтобы его черты слишком переменились — нет; но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем (хотя особенной дружбы между нами не существовало), но никогда мне не приходилось так входить в его положение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи и радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону, а теперь понял, какие муки должен был испытывать этот человек. «Неужели он в самом деле так опасен? — думал я. — Не может быть; не может же человек умереть от глупой зубной боли. Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо».