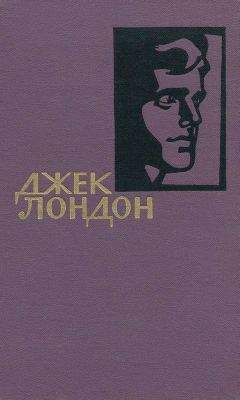О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платья, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.
– Стулья отодвинь! – запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.
На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.
– Слышишь? Василий, слышишь?
Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:
– Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.
Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.
– Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.
– Да, видел. Спит.
– А кто же говорит там?
– Никого там нет. Это послышалось тебе.
И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шутливо покачивала головой и неопределенно отмахивалась – как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, – отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она оборачивалась к мужу, – в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе, – на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:
– Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.
О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадьи. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:
– Поп, а поп! Ты помнишь Васю… того Васю?
– Нет.
– Ага! – обрадовалась попадья. – Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?
– Нет.
– А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь?
– Так. Нездоров.
Попадья сердито засмеялась.
– Ты? Нездоров? Это ты нездоров? – Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь. – Зачем ты лжешь?
О. Василий молчал. Попадья злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами:
– У-ах! Какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка. У-ах! Разве я виновата, что он родился такой? Ну говори же. О чем ты думаешь? О чем ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь?
О. Василий молчал и внимательным, раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо попадьи. И когда смолкали последние звуки ее бессвязной речи, жуткая, ненарушимая тишина железными кольцами охватывала ее голову и грудь и словно выдавливала оттуда торопливые и неожиданные слова:
– А я знаю!.. А я знаю! Я знаю, поп.
– Что знаешь?
– Знаю, о чем ты думаешь. Ты… – Попадья остановилась и со страхом отодвинулась от мужа. – Ты… в Бога не веришь. Вот что!
И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанное ею, и жалкая улыбка, просящая о прощении, раздвинула ее опухшие, искусанные губы, сожженные водкой и красные, как кровь. И обрадовалась, когда побледневший поп резко и наставительно ответил:
– Это неправда. Думай, что говоришь. Я верю в Бога.
И опять молчание, опять тишина, – но было в ней что-то ласковое, мягко обнимавшее попадью, как теплая вода.
И, потупив глаза, она стыдливо просила:
– Можно мне, Вася, я выпью немного? Скорее засну потом, а то ведь поздно.
Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла еще и выпивала до дна, маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В груди становилось горячо, хотелось какого-то веселья, шума и света, и людских громких голосов.
– Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот славно будет; люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови! Я поцелую тебя за это.
– Поздно. Она уже спит.
Попадья топнула ногой.
– Разбуди!.. Ну, ступай.
Пришла Настя, тонкая, высокая, как отец, с большими руками, загрубевшими в работе; ей было холодно, она зябко куталась в короткий платок и молча проверяла засаленную колоду.
И молча садились они играть в веселую и смешную игру – в хаосе сдвинутых с мест и перевернутых вещей, среди глубокой ночи, когда давно уже спало все: и люди, и животные, и поля. Попадья шутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят; но, лишь замирал последний звук ее речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над нею и душила.
И страшно было смотреть на две пары немых костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу, как будто только одни эти руки были живые и не было людей, которым они принадлежат. Вздрогнув, с пьяно-безумным ожиданием сверхъестественного она глядела поверх стола – два холодных, два бледных, два угрюмых лица одиноко выдвигались из темноты и качались в странной немой пляске – два холодных, два угрюмых лица. Что-то пробурчав, попадья выпивала водки, и снова бесшумно двигались костлявые руки, и тишина начинала гудеть, и кто-то новый, четвертый, появлялся за столом. Хищно скрюченные пальцы перебирали карты, потом двигались к попадье, бежали, как пауки, по ее коленям, подбирались к горлу…
– Кто тут? – вскрикивала попадья и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на нее. И было их только двое: муж и Настя.
– Успокойся, Настя. Мы тут. Больше никого.
– А он?
– Он спит.
Попадья села, и на минуту все перестало качаться и твердо стало на свое место. И лицо у о. Василия было доброе.
– Вася! А что же будет с нами, когда он начнет ходить?
Ответила Настя:
– Сегодня я собирала ему ужинать и видела: он шевелил ножкой.
– Неправда, – сказал поп, но слово это прозвучало далеко и глухо.
И сразу в бешеном вихре закружилось все, заплясали огни и мрак, и отовсюду закачались на попадью безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на нее, ощупывали ее скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и куда-то влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.
Попадья билась головой, порывалась куда-то бежать и рвала на себе платье. И так сильна была в охватившем ее безумии, что не могли с нею справиться о. Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. Вчетвером они осилили ее, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать, и остался с нею один о. Василий. Он неподвижно стоял у кровати и смотрел, как судорожно изгибалось и корчилось тело и слезы текли из-под закрытых век. Охрипшим от крику голосом она молила:
– Помогите! Помогите!
Дико-жалобен и страшен был одинокий крик о помощи, и ниоткуда не было ответа. Как саван, облипала его глухая и бесстрастная тишина, и был он мертв в этой одежде мертвых; нелепо задирали ножки опрокинутые стулья и стыдливо сверкали днищами; растерянно кривился старый комод, и ночь молчала. И все слабее, все жалобнее становился одинокий крик о помощи:
– Помогите! Больно! Помогите! Вася, миленький мой Вася…
Холодным и странно-спокойным жестом, не двигаясь с места, о. Василий поднял руки и взял себя за голову, как за полчаса перед тем попадья, и так же неторопливо и спокойно опустил руки, и между пальцами их дрожали длинные исчерна-седые нити волос.
Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкою его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал, пил и ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому. И кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его тяжелой поступи, в медлительности запинающейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей. Иногда приходилось по два раза окликать его, прежде чем он услышит и отзовется; другим он забывал поклониться, и за это стали считать его гордым. Так, не поклонился он однажды Ивану Порфирычу; тот сперва удивился, потом быстро нагнал медленно шагавшего попа.