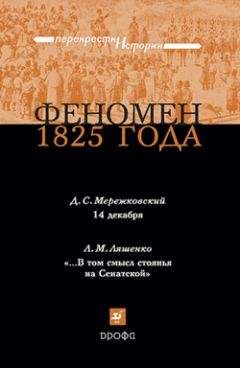Опыт "Документально-художественного исследования", как обозначили мы подзаголовок книги, убедил: трудным и трагичным был путь искупления и Павла Борищева-Пушкина, и всех его товарищей, томившихся в изгнании в сибирском захолустье 30 лет. Может быть, личная судьба каждого из 121 декабриста не требовала мученической жизни. Но именно через их общие страдания поднималась Россия на новую духовную ступень, а путь декабристов стал первым шагом к самосознанию русского народа.
Наверно, было бы исторической несправедливостью, если бы не появились на многострадальной Руси эти баловни судьбы, которые благо возлюбленного Отечества и народа поставили выше не только собственных интересов, но даже жизни.
Предлагая вниманию читателей эту книгу, мы надеялись не только познакомить их с прекрасными и трагическими судьбами лучших русских людей XIX века, но донести главную мысль: декабристы - не российское только явление, но планетарное. Земля редко вырабатывает такой драгоценный духовный сплав, который надолго становится нравственной сокровищницей людей. Но делает, наверное, это для того, чтобы не уснула беспросыпно историческая память людей, населяющих Землю, и у них всегда была бы точка отсчета духовного.
Глава 1
"Универитеты" Петропавловской крепости
Допрос 6-й
- Итак, на вас, квартирмейстерской части поручика Павла Сергеева сына Бобрищева-Пушкина 2-го, показание есть, что вы принадлежали тайному обществу, - проговорил генерал-адъютант Чернышев с монотонной злой скукой в голосе. - Соблаговолите ответить, что вы об оном знаете, какая цель и план его, с кем были в связи и какой имели круг знакомств. Когда и кем именно вы были приняты в оное?
Павел, уверенный, что, как всегда, вопросы и ответы, пройдя положенный круг, как бы зависнут перед бездоказательностью обвинений, так же монотонно, но почтительно отвечал:
- Я не однажды уже показывал, что ни о каком тайном обществе не имею сведения. Следовательно, ничего об оном никогда не слыхал, по той же причине не знаю, где оное возникло и кто его члены и соучастники. По той же причине не знаю ни цели оного, ни плана. Знакомства же я имел со всеми товарищами моими по службе и по корпусу колонновожатых, в котором обучался у генерала Муравьева.
- Какое ваше было употребление по службе? - спросил вдруг Чернышев.
- Я находился в школе юнкеров, где читал лекции математические.
- Знали вы, что брат ваш принадлежит тайному обществу?
Павел придал лицу удивленное выражение.
- Я от брата моего ничего не слыхал, могущее мне дать мысль об его участии в тайном обществе.
Чернышев медленным движением руки взял со стола два листа:
- 1826 года, марта 16-го дня, от высочайше учрежденного Комитета брату вашему поручику Бобрищеву-Пушкину 1-му сделан дополнительный вопросный пункт. В данных им ответах, исчисляя известных ему членов тайного общества, именует таковым и вас. На вопрос: когда, кем и где именно был принят в общество брат его Пушкин 2-й, пояснил: "Когда, кем и где именно был принят он в общество, не знаю, но, как мне помнится, узнал я об этом от князя Барятинского".
Не глядя на изумленного Павла, Чернышев положил этот лист на стол и поднес ближе к глазам второй:
- Того же дня дополнительный вопросный пункт сделан был и штабс-ротмистру князю Барятинскому: "Когда, где и кем именно был принят в тайное общество поручик Пушкин 2-й?"
Вот его ответ: "Никак не припомню, в котором году он вступил в общество. Но он был в принят в Тульчине мною".
Второй удар был равным первому. Павел почувствовал, как окаменели все его члены, голова стала не просто пустой и легкой - но как будто отделилась от бесчувственного тела, - все вокруг сделалось нереальным и бесконечно от него удаленным. Потребуй от него Чернышев сейчас ответа, он не только языком, пальцем шевельнуть не сможет. Лишь через минуту-другую - благо Чернышев занялся упорядочением бумаг на столе, - к Павлу вернулась способность соображать. "Брат - как же это, зачем? А Барятинский - в чем ему нужда называть меня?"
Чернышев не ждал ответа. Нынче был его день - стало ясным главное дело, с которым бились так долго. Однако нужна последовательность, и проверка должна быть верной.
- Сегодня, апреля 4-го дня, по решительному вашему запирательству в принадлежности к тайному обществу вам дается очная ставка с штаб-ротмистром князем Барятинским...
Кто бы мог подумать, что после стольких месяцев одиночества, темноты физической и темноты неведения, встреча с товарищем может оказаться таким чудовищным мучительством?
Павел не знал ещё очень многого. Того, что предстоит каждому из них в отдельности и всем вместе, не знал, сколько продлится следствие и чем оно закончится, и не ведал, как другие ведут себя на допросах. Но сейчас он видел в до неузнаваемости похудевшем, обросшем и, как ему показалось, опустившемся князе Барятинском труса, поправшего закон чести. Он посмотрел на него с нескрываемым презрением и снова все отрицал, а в протоколе № 9 допроса и очной ставки появилась очередная запись за подписью генерал-адъютанта Чернышева:
"Поручик Бобрищев-Пушкин 2-й отрицается от принадлежности к тайному обществу, утверждая, что князем Барятинским в оное принят не был"1.
Павел не знал, что на следующий день, 5 апреля, ждет его третий и самый страшный удар, потому что открылось главное, из-за чего он упорствовал все эти месяцы, что скрыть почитал своим долгом, за что готов был поплатиться жизнью.
Он не знал, что за эти месяцы высочайше учрежденный Комитет опросил сотни людей, привезенных со всех концов России, - всего было привлечено к следствию по делу декабристов около 600 человек (не считая солдат участников выступления на Сенатской площади и Черниговского полка).
Отделенный не только от всего мира, но даже от всего, что происходило в каменном гробу, называемом Петропавловской крепостью, сырой и беззвучной своей одиночкой, Павел тогда не знал всей изощренности сыска этого "высочайше учрежденного Комитета". В "Записках" декабрист А.В. Поджио пытается, как и многие его товарищи, найти объяснение успешному дознанию Следственной комиссии: "Каким образом пояснить эти признания, эту чисто русскую откровенность, не допускающую коварной, вероломной цели в допросителях? Как объяснить, что люди чистейших чувств и правил, связанные родством, дружбой и всеми почитаемыми узами, могли перейти к сознанию на погибель всех других? Каким образом совершился этот резкий переход в уме, сердце этих людей, способных на все благородное, великодушное? Какие тут затронуты были пружины, какие были пущены средства, чтобы достигнуть искомой цели: разъединить это целое, так крепко связанное, и разбить его на враждующие друг другу части? Употреблялись пытки, угрозы, увещания, обещания и поддельные, вымышленные показания!"1 "Действенным" средством оказались "железа": ручные кандалы "обрели" 13 самых непокорных, "дерзких" декабристов: Борисов П.И., Башмаков Ф.М., Андреевич Я.М., Якушкин И.Д., Семенов С.М., Щепин-Ростовский Д.А., Арбузов А.П., Бестужев А.А., Якубович А.И., Цебриков Н.Р., Муравьев А.З., Бестужев-Рюмин М.П., Бобрищев-Пушкин Н.С. (14-м был крепостной В.К. Кюхельбекера Семен Балашев). И эти 15-фунтовые "украшения" они носили, не снимая, ровно четыре месяца непрерывные 120 дней и ночей ("железа" сняты были с 12 декабристов 30 апреля 1826 г., с Н.С. Пушкина - 10 апреля).
Тот же А.В. Поджио объяснил и важный аспект психологического состояния арестованных декабристов: они надеялись на здравомыслие монарха: "Сначала, когда стали на нас злобно напирать и мы пошли было в отпор и держались, насколько было сил, но, когда борьба стала невозможна против истины доносов и самых действий, вы, строгие судьи, оставались в своих кабинетах и легко вам было судить да рядить затворников, отвергнутых и вами и всеми!
Обещанные расстреливания не состоялись; мы как-то стали свыкаться со своими следователями, взведенные ужасы теряли свое значение, и мы мало-помалу пришли к тому заключению, что дело возникшее должно будет принять оборот более разумный! Казалось, что дело... должно было при новом царствовании утратить свое прежнее назначение и подвергнуться не преследованию, а исследованию, более соответствующему благоразумной цели".
Надежды эти рассеивались с каждым новым допросом...
В одиночном покое
Дверь захлопнулась за ним с каким-то придушенно-ухнувшим звуком. "Будто тяжко вздохнула, - подумал он. - Обо мне вздохнула". Темнота камеры привычно опустилась на плечи, как-то сразу ссутулила всю его высокую стройную фигуру, и теперь он большим вопросительным знаком нависал над убогим топчаном, крошечным столиком и единственным добрым приветом свечкой. Душа его скорбела и страдала, как никогда. Повинен в этом был сегодняшний допрос, так больно и остро напомнивший первый - 16 января 1826 года - и первые часы в камере. И тогда, как сегодня, черная печаль заполнила все его существо, а глаза приковались к свече - маленькому и мужественному живому свету в безнадежности мрака. Тогда, вечером 16 января, в первые минуты его зрение не воспринимало окружающего в каземате - оно ещё не могло освободиться от только что виденного - там, за вздыхающими дверьми: вечерних улиц Петербурга, в котором он очутился впервые в жизни, от сверкающих огнями окон дворцов - обласканные новым монархом придворные устраивали приемы и балы. Сановная столица забыла о них, ещё живых, но уже будто погребенных.