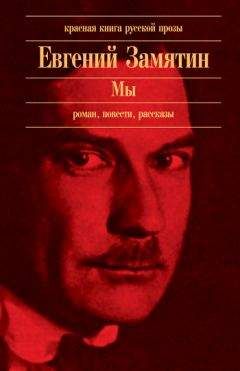4. Молитвы
Костя за ужином не был. Исправничиха сказала ему:
– Константин Захарыч, ты у нас свой человек… Не прогневайся уж, стульев нехватка.
На нет – нет и суда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры: нынче Глафира – в белом платье – была совсем замечательная, прямо вот… божеская. Ну, тоже и князь, еще бы на него поглядеть.
Каждое мание князя – нравилось Косте, каждое слово его ловил. А когда услышал про одеколоны его – тут Костя уж совсем восторгнулся, закипели стихи в голове.
Пришел Костя домой – первым делом к укладке, вынул тетрадь – и сразу, с присеста, напечатлел:
Наш новый господин почместер
Замечательный человек.
А по мне раз в десять
Умнее тут всех.
И когда мне представлялся,
То мне рукопожал.
Я восхищался
И навек его уважал.
Потифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый, румяный, блин полила маслом, поставила Косте. Стал было Костя искаться: сыт уж, довольно.
– Господи-батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а?
Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой – Костя снова ел блины без счету: кипели еще стихи в голове – до счету ли тут было?
А наутро – катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел: куда уж. И все хуже да хуже.
К прощеному дню – Костя обрезался, совсем посинел. Потифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз наметался. С базара пришла, увидала Костю такого – как взвоет. Да скорей за отцом Петром: хоть бы христианской кончиной-то помер Коська.
Потифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру.
И пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы: нет бы за доктором или за попом, а он за вертихвосткой этой посылает!
И когда возле себя увидел Костя ее – Глафиру, единую, божескую, – сдвинулся в нем какой-то столетний камень, и забил из-под камня из самой глуби хрустальный ключ: всего напоил, утишил, исполнил. Тихонько взял Костя Глафирину сладкую руку:
– Теперь… я должен сказать… Помираю, блинов объелся. И теперь вот… Нет, не могу я про это сказать словесно!
От жалости вся сморщившись, Глафира сказала:
– Ну, что вы, Костя, зачем? Ведь вы знаете, что я вас тоже… зачем говорить…
Костя улыбнулся прозрачно-покорно: теперь – хорошо помереть. Туман… Туманом заволокло Глафиру, последней ушла она от Кости. Конец, тихо все, сладко – и если б только маманя не брызгала в лицо водой… Но Потифорна все брызгала: Костя открыл глаза еще раз…
Так бы, может, Костя и помер, да втесался тут отец Петр – с баклановкой со своей; баклановка у него была – ото всех болезней помога. В баклановке первое – конечно, водка, всем лекарствам мать; а в водку – красный сургуч толченый положен, да корень калган, да перцу индейского красного же, да еще кой-чего, что берег в секрете отец Петр.
С баклановки ли с этой огневой или просто с радости великой – стал Костя живеть помалу. На крестопоклонной встал с постели: еще ветром качало, зеленый, длинный – скворечня живая; Костин озябший носик – усох, стал еще меньше, еще жалостней.
Потифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру, благодарить за баклановку.
– Ну-ну-ну, чего еще там, – замахал отец Петр на Костю. – Поговей постом – вот и все. Ну-ну, иди с Богом.
Протопоп сидел в углу – усталый, после обедни постовской; мохнатенький, темный – в угол забился. Несть числа у него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый день, шел тучей народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов: медленный, мешкотный шепот в уши лез без конца.
Уходил протопоп из собора – будто медом обмазан и вывалян весь в пуху: мешает, пристало по всему телу. Одно только спасенье было: придя домой – выпить рюмку баклановки.
Перво-наперво после той рюмки – пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное, налипшее гинет. Тихо – не спугнуть бы – пригнувшись, сидит отец Петр. А протрет глаза – и уж ясно видит настоящее, яснее, чем в сто крат, чем днем.
Тотчас за окном – веселая козья морда кивает:
– Здравствуй.
– Ну, здравствуй, ишь ты какой нынче!
В таком виде – любит их отец Петр. Вот если они принимают человечий зрак – нашей одежи не любят они, все больше голяшом – ну, тогда уж…
Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит: Варвара идет. Тот – дирака́, конечно: в одноножку, вприскочку, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру: тряско подскакивает его левое плечо на бегу.
А голова у протопопа работает ясно-преясно:
– Не от рюмки же это, всякому видно: дело не в рюмке.
Когда приходила Варвара – глаз не открывая, спрашивал протопоп:
– Это ты, Собаче́я? – и явственно видел у Варвары зубы – злые, собачьи, черно-синюю шерсть.
– Что же мне с тобою делать? Опять ты? – кричала Собаче́я злая, кусала отца Петра: в руки преимущественно и в ляжки.
Наутро, за чаем, заплаканная, говорила:
– Какая я тебе Собаче́я? Ты что на меня возводишь?
Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке:
– А это, а это – что?
И глядит не глядит Варвара, заладила свое:
– Знать ничего не хочу, к доктору надо тебя.
К доктору, хм… Нет, тут доктор не сведущ.
В Великий четверг – Варвара в лотке купалась на кухне. Иван Павлыч по городу шлындал, отец Петр сидел один.
И опять – тот же самый пришел, коземордый, и никто уже не мешал: всласть наговорился отец Петр. Очень интересные вещи рассказал коземордый, и между прочим, что у них уже начинает распространяться истинная вера и уж он, коземордый, по истинной вере пошел.
Так протопоп обрадовался – просто нету и слов. Вечером, на стоянии, между Евангелий, все думал протопоп:
«Ну, слава Богу, истинная вера пошла и там. А то жалко их было – беда…» – радостно бил протопоп поклоны за истинную веру.
И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва: Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом: и за то, что сподобился от таланта – стихи писать; и за чин четырнадцатого класса; и самое главное – за то, что он стоял сейчас рядом с Глафирой.
В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает страсти не спеша, истово. Костя в новой тужурке, сердце полно. Глаза опустил, сладко видеть Глафирину милую руку; наклеивать, как и она, метинки на свече – евангельям счет; уколоться украдкой о теплый локоть…
От стояния несли домой четверговый огонь. Людей в теми не видать – только огоньки текут. Вот уж в заречье – свернули в проулки – загасли. Тихо.
Костя прикрывал свечу фуражкой. На росстани трех переулков взглянул на Глафиру, все забыл, забыл про свечу – и задуло ветром огонь.
Попросил огня у Глафиры. Дрожали руки, долго не мог попасть. И когда наконец зажег – сладко сжалось сердце у Кости: предвещаньем каким-то, навек нерушимым, было соединение их свечей. И огненному знаку так крепко поверил Костя, что, нагнувшись к Глафире, спросил:
– А когда же… свадьба?
Раздумчиво поглядела Глафира куда-то мимо Кости и ничего не сказала.
Дворянин Иван Павлыч – стал у князя доверенным человеком: от Ивана Павлыча и пошел слух, что на Пасхе объявит князь свою тайну и всех пригласит.
– Да к чему пригласит-то?
– А вот, погодите маленько, все объяснится, – с ехидной приятностью отвечал Иван Павлыч.
Еле дождались Пасхи. День выпал на славу. С утра сусальным золотом солнце покрыло Алатырь – стал город как престольный образ. Красный трезвон бренчал серебром весь день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной встречи. И напротив самых присутственных мест – топтала сукно свинья…
Князь с визитами ездил задумчив: хорошо бы и правда – в такой день святое дело начать… Но все разговелись усердно, везде на столах травнички, декокты, наливки, настойки: где уж там серьезный разговор завести?
Последняя у князя надежда была – на отца Петра: отец Петр способен – от мира вознестись к возвышенному. Несомненно, способен: человека по глазам – сейчас видно.
Так рассуждал князь, подкатывая на линейке к отцу протопопу. Откуда ни возьмись – свинья. Хрюкнула зло на лошадь, лошадь – шарахнулась, ляскнул зубами князь, еле усидел. Вошел к протопопу расстроенный.
– Отец по приходу ходит, – вышла к князю Варвара. Повертела лампу в руках, но почему-то не зажгла.
Только тут князь приметил: а пожалуй, ведь поздно. За окном взошел месяц, ущербленный, тусменный, узкий. И таким увиделось небо жутко-пустым, таким замолкшим навек, что схватило горло, хоть вой…