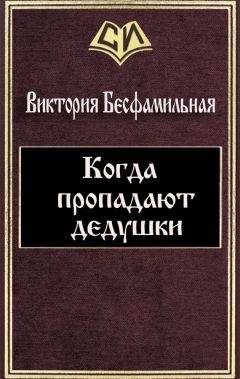– - Ах ты, пес, худой человек! Сам виноват по уши, а на других зло срывает. Кто тебе, беспутному, велит так жить-то? Ты бы вел себя, как люди, тебе и дома б был привет, и на людях почет, а то ведь сам своими делами этого достукался!..
Отец сидел на лавке и был точно разбитый; его уже нельзя было назвать ни пьяным, ни буйным, а чувствовалось, что просто человек размяк. На бабушкины слова он забормотал:
– - Верно, что сам… Я сам не прав, матушка… Не прав, верно… Только что же я с собой поделаю; скажи мне на милость?
– - На путь находи, вот что!.. Пора образумливаться-то… не молоденький… на четвертый десяток идет!.. Ты только подумай это!..
– - Как я на путь найду? как? коли я с собой не совладаю. Я, матушка, рад бы в рай, да грехи не пускают…
– - Врешь! сам на себя слабость напустил. Верить не хочу, чтобы с собой не совладать. Совладаешь, коли захочешь…
– - Матушка, вот тебе истинный бог, не вру… ничего не поделаю… Ведь я не завсегда пью… Работаешь иной месяц, иной больше, -- капли его в рот не берешь, и горя мало… Табашникам, вон, говорят, без табаку полдня тошно провесть, а это и не думается… А как подойдет случай, выпьешь стакан, ну тогда и пошел, ничем уже себя не сдержишь… Я, може, сколько зароков не исполнил, сколько клясьб нарушил. Я бы сам рад отстать, от него, да не могу… Не могу, матушка, пропащий я человек!..
Он вдруг вытянулся по лавке лицом вниз и заплакал горькими пьяными слезами. Он плакал горько, навзрыд. Бабушка, глядя на него, тоже всхлипнула и утерла слезу.
– - Ах ты, головушка моя горькая! -- лепетала бабушка. -- Ах я, мученица беспросветная! Когда я развяжусь-то только с вами! Снимаете вы с моих плеч мою буйную головушку!..
Рыданья отца делались тише и тише; потом они смолкли, и стали слышны одни всхлипыванья, при которых сильно вздрагивали его плечи. Потом и этого не стало заметно; послышалось ровное сопенье, а потом легкий храп -- отец заснул.
VIII
Его не тревожили до утра. Утром был праздник, Петров день. Из деревни почти все поехали в наш город на ярмарку. В эту ярмарку, у кого был лишний, продавали скот, покупали новые косы, бруски, серпы, грабли, провизию на покос. Пора наступала кипучая, нужно было и еды побольше и получше запасти, но нам не с чем было ехать, хотя и было зачем. Праздник встретили не по-праздничному. Особенно угрюмым казался отец. Он сделался много суровей и старше из лица. До обеда он ни с кем не говорил ни слова, хотя из избы никуда не выходил, а или сидел, или лежал с задумчивым видом. Да и все наши в то утро мало говорили.
После обеда мать и бабушка послали отца готовить косы на покос. Он пошел и до вечера пробыл у сарая. Отец справил две старые косенки, выбил их, смастерил несколько грабель и к вечеру уже казался повеселевшим.
Присматриваясь к характеру отца, я не мог не заметить такой в нем черты: когда отец работал в покос, или в поле, или молотил в овине, он редко когда был весело настроен, а всегда был сердитый, точно он выполнял какую немилую, ненужную ему совсем обязанность. Совсем другое дело было, когда ему приходилось работать топором. Он оживлялся, угрюмость исчезала, его охватывало веселое настроение, делавшее его способным шутить, мурлыкать песни. Работу топором он очень любил. Все лето, все свободное время он сидел в устроенном им шалашике около сарая и мастерил что-нибудь. Мне он делал тележку, салазки к зиме, особые грабельки, особый цеп. Матери с бабушкой он устраивал новые станы к гребню, кроны. Вытесывал оси к телегам, грядки к саням. Еще любил он ходить за грибами. Лишь только в лесах покажутся грибы, он в первый праздник или в будни в ненастный день вставал рано утром и отправлялся в лес. Он возвращался оттуда усталый, весь промокший, но той печали на лице, которая ложилась на нем при какой-нибудь хлебной работе, и в помине не было.
IX
До самого Ильина дня жара стояла изо дня в день. На небе не появлялось ни тучки, ни облачка. С раннего утра поднималось красное солнышко и палило своими лучами сухую, растрескавшуюся землю. Даже ночью не выпадала роса, и косцы жаловались, что очень трудно брать траву: и так-то она плохая, без росы же ее половина оставалась на корню.
Пошли слухи, что кое-где загорелись леса, болота. Горели они далеко, но дым доходил до нас. Иное утро дым стоял как туман, пахло гарью, тяжело было дышать. Все просили бога о дожде, но дождя все не было и не было.
Я спал очень крепко и вдруг почувствовал во сне, что наша изба точно встрепенулась и что-то страшно грянуло. Я поднял голову, и по моим слипшимся ото сна глазам вдруг резнуло ярким, ослепительным светом, и грянуло еще раз. Потом на улице сильно зашумело и начало барабанить нам в окна. Я хотел с испугу схватиться за бабушку, но бабушки на постели не было; я окликнул ее, она отозвалась около печки, и тотчас же я увидел, как из печки вздулся огонек: бабушка зажигала лучинку. Я спросил ее, -- что это? Бабушка отвечала:
– - Гроза собралась -- не слышишь, нет?
Вслед за этим раздался такой оглушительный раскат грома, что изба опять вздрогнула, стекла задребезжали. Бабушка с лучиной в руках пошатнулась и тотчас истово перекрестилась и прошептала:
– - Свят, свят, свят, господь бог наш!
С меня соскочил сон, я спрыгнул с постели, подбежал к окну и стал глядеть сквозь стекла на улицу; на улице шел такой сильный дождь, что стекла заливало водой и сквозь них минутами ничего не было видно.
Гроза продолжалась до света только. Перед восходом солнца она стала утихать; гром гремел реже и глуше, дождик ослаб, буря перемежилась. После солнечного всхода прочистилось и небо. На улице сразу все повеселело. Трава точно выросла и стала ярко-зеленою. Листья на деревьях весело смеялись, воздух освежился. У нас в избе все стало хуже. Что делалось внутри ее -- грустно было глядеть: стены взмокли, на лавках, на шестке, на судинке, на полу стояли грязные лужи, из щелей потолка висели огромные капли побуревшей от сажи воды, которые, обессилев держаться вверху, обрывались и падали, шлепая на пол, а на их месте тотчас же образовывались другие. Наша с бабушкой постель, разное тряпье -- все было смочено. На брусу размокла краюшка хлеба, и только бывший в столе хлеб уцелел. Пролило все и в сенях, и в горенке. У бабушки сундук был с дырявой крышкой, так вода прошла даже в сундук и смочила там все, так что бабушке и перемениться было не во что. Наши все ходили нахмурившись, грустные. На работу в этот день не ходили, и отец с матерью все утро были дома. Затопивши печку, бабушка вдруг не выдержала и, обращаясь к отцу, сказала:
– - Ну вот, сынок, порадуйся, какие у нас дела. Видишь, у нас решето, а не изба; как же нам будет зимой в ней время коротать? Подумай-ка хорошенько?
Отец ничего не сказал; мать проговорила:
– - Он там в Москве этой нужды-то не видит, вот и не понимает.
– - Аккурат так! -- угрюмо пробурчал отец.
– - Знамо, не понимаешь, -- продолжала мать, -- если бы понимал, то не так бы старался, а ты только о своем мамоне знаешь.
– - Ну, опять пошла! -- недовольным голосом крикнул отец.
– - И пойдешь, нешто не пойдешь, как достанет-то.
Отец вышел из избы, сердито хлопнув дверью. Мать прикусила язык и глубоко вздохнула.
– - Ну, как он только не чувствует этого, батюшки!
И она опять прерывисто вздохнула; бабушка на это ничего не сказала.
Началось жнитво, но оно в тот год не затянулось, рожь была погонистая. Стали молотить. Кто намолачивал две меры с сотни, кто и того меньше. Наши наколотили двадцать мер, из них двенадцать нужно было посеять, а остатком отдать долги да кормиться зиму. Решили убавить посева. Ярового получили только отдать в магазей, за работу попользовались лишь соломой да мякиной. На подати и на что другое продать было нечего на грош. Дело подходило совсем плохо.
– - Что ж нам теперь делать? что делать? -- говорила матушка и всю грудь надорвала, вздыхая.
Бабушка молчала, молчал и отец.
Осенняя работа подобралась скоро. Нужно было что-нибудь решать на зиму. Отец однажды проговорил:
– - Если нам, матушка, вот что сделать?
– - Что? -- спросила бабушка.
– - Обоим с Маврой в Москву-то идти, приделиться где-нибудь на одной фабрике; выработаем-то побольше, да и я-то с ней поддержусь.
Бабушка задумалась. Подумавши, она проговорила:
– - А что ж нам-то со Степкой будет делать? Останемся мы старый да малый, нас снегом занесет, не откопаешься.
– - Бог милостив, как-нибудь все проживете, а мы вдвоем-то и на иструб скорой выживем и подати покроем.
– - Как ты думаешь, Мавра? -- спросила бабушка у матушки.
– - Что ж думать, надо, как лучше! -- вздохнув, вымолвила матушка.
– - Знамо, как лучше, кто про это говорит, только лучше-то как?
– - Я, пожалуй, поехала бы в Москву.
Бабушка опять задумалась; подумавши, она вдруг решительно поднялась с места и проговорила:
– - Ну, коли поехала б, и поезжайте. Дай бог час! Только гляди, Тихон, не дурить тебе там. Пора опомниться!.. Ни для кого это, а для себя… У тебя вот малец растет; если будешь блажить, то и от него тебе не будет почета, и от меня моего родительского благословения!