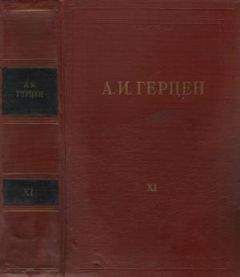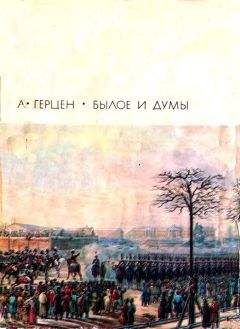– Надеюсь, это не в последний раз, я буду всегда рад… Итак, au revoir.
– В Париже, – ответил я.
– Как в Париже?
– Вы так убедили меня, что революция за плечами, что я, право, не знаю, успею ли я побывать у вас здесь.
Он смотрел на меня с недоумением, и потому я поторопился прибавить:
– По крайней мере я этого искренно желаю; в этом, думаю, вы не сомневаетесь.
– Иначе вы не были бы здесь, – заметил хозяин, и мы расстались.
Кошута в первый раз я видел, собственно, во второй раз. Это случилось так. Когда я приехал к нему, меня встретил в парлоре[18] военный господин, в полувенгерском военном костюме, с извещением, что г. губернатор не принимает.
– Вот письмо от Маццини.
– Я сейчас передам. Сделайте одолженье. – Он указал мне на трубку и потом на стул. Через две-три минуты он возвратился.
– Г. губернатор чрезвычайно жалеет, что не может вас видеть сейчас: он оканчивает американскую почту; впрочем, если вам угодно подождать, то он будет очень рад вас принять.
– А скоро он кончит почту?
– К пяти часам непременно.
Я взглянул на часы – половина второго.
– Ну, трех часов с половиной я ждать не стану.
– Да вы не приедете ли после?
– Я живу не меньше трех миль от Ноттинг-Гилля. Впрочем, – прибавил я, – у меня никакого спешного дела к г. губернатору нет.
– Но г. губернатор будет очень жалеть.
– Так вот мой адрес.
Прошло с неделю. Вечером является длинный господин. с длинными усами – венгерский полковник, с которым я летом встретился в Лугано.
– Я к вам от г. губернатора, он очень беспокоится, что вы у него не были.
– Ах, какая досада. Я ведь, впрочем, оставил адрес. Если б я знал время, то непременно поехал бы к Кошуту сегодня – или… – прибавил я вопросительно, – как надобно говорить: к г. губернатору?
– Zu dem Olten, zu dem Olten[19], – заметил, улыбаясь, гонвед. – Мы его между собой всё называем der Olte. Вот увидите человека… такой головы в мире нет, не было и… – полковник внутренно и тихо помолился Кошуту.
– Хорошо, я завтра в два часа приеду.
– Это невозможно. Завтра середа, завтра утром старик принимает одних наших, одних венгерцев.
Я не выдержал, засмеялся, и полковник засмеялся.
– Когда же ваш старик пьет чай?
– В восемь часов вечера.
– Скажите ему, что я приеду завтра в восемь часов, но, если нельзя, вы мне напишите.
– Он будет очень рад. Я вас жду в приемной.
На этот раз, как только я позвонил, длинный полковник меня встретил, а короткий полковник тотчас повел в кабинет Кошута.
Я застал Кошута работающего за большим столом; он был в черной бархатной венгерке и в черной шапочке. Кошут гораздо лучше всех своих портретов и бюстов; в первую молодость он был, вероятно, красавцем и должен был иметь страшное влияние на женщин особенным романически задумчивым характером лица. Черты его не имеют античной строгости, как у Маццини, Саффи, Орсини, но (и, может, именно поэтому он был роднее нам, жителям севера) в печально-кротком взгляде его сквозил не только сильный ум, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и несколько восторженная речь окончательно располагали в его пользу. Говорит он чрезвычайно хорошо, хотя и с резким акцентом, равно остающимся в его французском языке, немецком и английском. Он не отделывается фразами, не опирается на битые места; он думает с вами, выслушивает и развивает свою мысль почти всегда оригинально, потому что он свободнее других от доктрины и от духа партии. Может, в его манере доводов и возражений виден адвокат, но то, что он говорит, серьезно и обдуманно.
Кошут много занимался до 1848 года практическими делами своего края; это дало ему своего рода верность взгляда. Он очень хорошо знает, что в мире событий и приложений не всегда можно прямо летать, как ворон; что факты развиваются редко по простой логической линии, а идут лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательным. И вот причина, между прочим, почему Кошут уступает Маццини в огненной деятельности и почему, с другой стороны, Маццини делает беспрерывные опыты, натягивает попытки, а Кошут их не делает вовсе.
Маццини глядит на итальянскую революцию, как фанатик; он верует в свою мысль об ней; он ее не подвергает критике и стремится ora е sempre[20], как стрела, пущенная из лука. Чем меньше обстоятельств он берет в расчет, тем прочнее и проще его действие, тем чище его идея.
Революционный идеализм Ледрю-Роллена тоже несложен, его можно весь прочесть в речах Конвента и в мерах Комитета общественного спасения. Кошут принес с собою из Венгрии не общее достояние революционной традиции, не апокалиптические формулы социального доктринаризма, а протест своего края, который он глубоко изучил, – края нового, неизвестного ни в отношении к его потребностям, ни в отношении к его дико свободным учреждениям, ни в отношении к его средневековым формам. В сравнении с своими товарищами Кошут был специалист.
Французские рефюжье[21], с своей несчастной привычкой рубить сплеча и все мерить на свою мерку, сильно упрекали Кошута за то, что он в Марселе выразил свое сочувствие к социальным идеям, а в речи, которую произнес в Лондоне с балкона Mansion House, с глубоким уважением говорил о парламентаризме. Кошут был совершенно прав. Это было во время его путешествия из Константинополя, т. е. во время самого торжественно-эпического эпизода темных лет, шедших за 1848 годом. Северо-американский корабль, вырвавший его из занесенных когтей Австрии и России, с гордостию плыл с изгнанником в республику и остановился у берегов другой. В этой республике ждал уже приказ полицейского диктатора Франции, чтоб изгнанник не смел ступить на землю будущей империи. Теперь это прошло бы так, но тогда еще не все были окончательно надломлены; толпы работников бросились на лодках к кораблю приветствовать Кошута, и Кошут говорил с ними, очень натурально, о социализме. Картина меняется. По дороге одна свободная сторона выпросила у другой изгнанника к себе в гости. Кошут, всенародно благодаря англичан за прием, не скрыл своего уважения к государственному быту, который его сделал возможным. Он был в обоих случаях совершенно искренен; он не представлял вовсе такой-то партии; он мог, сочувствуя с французским работником, сочувствовать с английской конституцией, не сделавшись орлеанистом и не предав республики. Кошут это знал и отрицательно превосходно понял свое положение в Англии относительно революционных партий; он не сделался ни глюкистом, ни пиччинистом, он держал себя равно вдалеке от Ледрю-Роллена и от Луи Блана. С Маццини и Ворцелем у него был общий terrain[22], смежность границ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; с ними он и сошелся с первыми.
Но Маццини и Ворцель давным-давно были, по испанскому выражению, afrancesados[23]. Кошут, упираясь, туго поддавался им, и очень замечательно, что он уступал по той мере, по которой надежды на восстание в Венгрии становились бледнее и бледнее.
Из моего разговора с Маццини и Ледрю-Ролленом видно, что Маццини ждал революционный толчок из Италии и вообще был очень недоволен Францией, но из этого не следует, чтоб я был неправ, назвав и его afrancesado. Тут, с одной стороны, в нем говорил патриотизм, не совсем согласный с идеей братства народов и всеобщей республики, с другой – личное негодование на Францию за то, что в 1848 она ничего не сделала для Италии, а в 1849 – все, чтоб погубить ее. Но быть раздраженным против современной Франции не значит быть вне ее духа; французский революционаризм имеет свой общий мундир, свой ритуал, свой символ веры; в их пределах можно быть специально политическим либералом или отчаянным демократом; можно, не любя Франции, любить свою родину на французский манер; все это будут вариации, частные случаи, но алгебраическое уравнение останется то же.
Разговор Кошута со мной тотчас принял серьезный оборот: в его взгляде и в его словах было больше грустного, нежели светлого; наверное, он не ждал революции завтра. Сведения его об юго-востоке Европы были огромны, он удивлял меня, цитируя пункты екатерининских трактатов с Портой.
– Какой страшный вред вы сделали нам во время нашего восстания, – сказал он, – и какой страшный вред вы сделали самим себе. Какая узкая и противуславянская политика – поддерживать Австрию. Разумеется, Австрия и спасибо не скажет за спасение, разве вы думаете, что она не понимает, что Николай не ей помогал, а вообще деспотической власти?
Социальное состояние России ему было гораздо меньше известно, чем политическое и военное. Оно и не удивительно: многие ли из наших государственных людей знают что-нибудь о нем, кроме общих мест и частных, случайных, ни с чем не связанных замечаний. Он думал, что казенные крестьяне отправляют барщиной свою подать, расспрашивал о сельской общине, о помещичьей власти; я рассказал ему что знал.