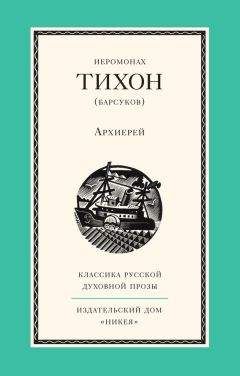Немного погодя он снова начал:
– В прошлое воскресенье владыка служил в соборе. Нарочно сходил посмотреть на его служение. Хорошо служит. Голос у него такой сильный, звучный, так по собору эхом и раскатывается. Собой представительный, а в полном архиерейском облачении еще лучше выглядит. Как пойдет по собору кадить – любо смотреть. Осанка прямо царская… Завтра тоже он служит тут в монастыре. Сходи посмотри, если есть желание… – предложил отец Герасим своему гостю.
– Я и сам думал: прежде чем идти к архиерею с просьбой – взглянуть на него где-нибудь со стороны. У меня глаз на этот счет верный. Понравится – пойду, не понравится – не пойду: все равно толку никакого не будет.
Стук в дверь прервал разговор приятелей.
– Пожалуйте, кто там? – ответил на стук отец Герасим.
Дверь отворилась, и в нее просунулась всклокоченная голова какого-то оборванца.
– Батюшка, а вы обещали к нам зайти, так не забудьте.
– Сейчас, сейчас, иду, – заторопился отец Герасим. – Ну, Павлуша, ты меня пока извини; я тут побегаю по одному дельцу. Ты ведь у меня ночуешь? Да ты где ж остановился? На постоялом? Зачем же? Ты переезжай ко мне… Сейчас же… Ладно? Поживем вместе, пока твое дело решится.
– Что ж, если позволишь, я с большим удовольствием, – согласился отец Павел. – Только я уж лучше после к тебе, а то сегодня ты, кажется, занят. Вот уже побываю у архиерея, тогда…
– Как хочешь. После так после, только приходи. Кстати сообщишь, что тебе скажет архиерей.
Товарищи распрощались. Отец Герасим ушел с ожидавшим его около двери оборванцем, а отец Павел направился к постоялому двору в свою каморку.
Только в первом часу ночи вернулся в свою одинокую квартирку отец Герасим, усталый и измученный. «Дельце», по которому он ушел, проводив отца Павла, ему не удалось «уладить». Слишком поздно позвали его. Федотыч (так звали оборванца), пригласивший к себе отца Герасима, ждал от него помощи своей умирающей жене. Звать доктора у него не было средств, да и зачем, когда он знал, что отец Герасим выхаживал иной раз больных лучше многих докторов. Вошедши в убогую каморку Федотыча, отец Герасим увидел, что с больной уже началась агония. Часа через полтора больной не стало. Перед отцом Герасимом остался растерянный Федотыч. Отец Герасим знал, что у Федотыча нет никого из знакомых, а потому, не теряя времени, снял с себя рясу, засучил рукава подрясника и, отыскав воды, стал обряжать покойницу. Через час, при помощи Федотыча, покойница была обряжена и уложена на стол под образами.
– Не тужи, Федотыч, проживем и бобылями, – сказал отец Герасим и, оставив Федотыча одного со своей покойницей, ушел домой, назначив на завтра же отпевание.
Отцу Герасиму хотелось отдохнуть, но сон бежал от него. Встреча с отцом Павлом пробудила в нем жгучие воспоминания, и они – одно за другим – хлынули на него. Вся прожитая жизнь встала у него перед глазами. Вот пронеслись пред ним картины из его детства. Деревня. Воздух лесов и полей… Отец – священник… На улице дерутся пьяные мужики. Возле разодрались мальчишки. Из соседней хаты доносится нечеловеческий крик – то муж «учит» жену.
– Господи! И чего только людям недостает? Из-за чего дерутся? – вздыхает, стоя на крылечке батюшкиного дома, мать отца Герасима. И вздох ее неразрешимым вопросом врезается в головку подрастающего Гераськи, будущего отца Герасима. Этот вопрос мучит его в духовном училище, еще острей колет его сердце с переходом в семинарию, но только в пятом классе семинарии он, как показалось тогда ему, нашел на него ясный ответ: «Любви не хватало, любви к Богу и ближнему. Люди забыли Евангелие. Христиане отвергли Христа, продолжая называться Его именем». С этого момента юный и пылкий семинарист Герасим Иванович ни о чем больше не говорил, как только о любви. Любимым чтением его стали произведения, в которых выводились героями проповедники любви. С этого же момента он твердо решил пойти в священники и посвятить все свои силы проповеди мира и любви. Будущее место своего служения отец Герасим заранее представлял себе не иначе как в виде беднейшего сельского прихода в епархии.
Вскоре, однако, отец Герасим оставил свою мечту о служении в деревне. В городе он встретил людей, которые были несчастнее сельчан. То были обитатели разных ночлежек; им еще более недоставало того, что думал нести Герасим Иванович своим сельчанам. Тут было сплошное царство злобы и тьмы. И вот он решает, что будет священником в городе, но только подальше от центральных богатых церквей. Там, где-нибудь на окраине города, где больше всего любит ютиться городская рвань.
Быстро промчались семинарские годы. Начальство прочило Герасима Ивановича в академию, но он отказался. Ему скорей хотелось добраться до дела.
И вот осуществилась наконец его мечта. Герасим Иванович стал отцом Герасимом, настоятелем одной из окраинных в городе церквей.
Пылко взялся отец Герасим за работу и сразу же весь ушел в нее. Полились из уст его горячие речи о Божией правде, о любви, о мире. И за обедней, и за вечерней, и за всякой службой раздавалась в церкви горячая проповедь красноречивого, талантливого и неутомимого проповедника. Слушатели отца Герасима были именно таковыми, каких он желал иметь себе. О многих из них можно было сказать, что они утратили в себе не только образ Божий, но и обличье человека.
Слушателей было мало: приход по объему был велик, но «настоящих прихожан» почти не было. Большинство домишек, входивших в район прихода, населяла именно городская рвань, которая заходила в церковь только с целью укрыться от непогоды или найти какого-нибудь богомольца, от которого можно было поживиться копеечкой. Слушатели не шли к отцу Герасиму. Тогда отец Герасим сам пошел к ним. Он перенес центр своей проповеднической деятельности в самое гнездо, кишевшее отбросами общества, – в ночлежку и здесь с еще большей энергией принялся за проповедь евангельской любви. Целыми днями, напрягая все силы своей души и пользуясь самыми разнообразными средствами, старался он, не жалея своих мрачных красок, обрисовать своим слушателям гнусное царство отвратительной злобы, мучительной тьмы, омерзительного порока и резко противопоставлять ему во всем пленительном блеске светлое царство благодатного мира, радостной любви и святой правды.
Тяжел был труд на ниве Божией, но отец Герасим сеял сеял и сеял. Всходов, однако, никаких не показывалось. Его слушатели не стали лучше ни на волосок, в отношении же себя он ясно различал начинавшую зарождаться в слушателях беспричинную ненависть к себе. Дальше – хуже. Скоро отец Герасим увидел и факт явного издевательства над своей проповедью.
Как-то раз отец Герасим по хозяйственной надобности отправился в город вместе с матушкой. Дома не осталось никого. Возвратившись из города слишком поздно, отец Герасим нашел двери своей квартиры выломанными, а саму квартиру совершенно пустой. Воры вытащили все, что только можно было унести из квартиры. На окне была приклеена безграмотная записка: «Ты много говорил нам о святости. Святые люди ничего не имели. Мы захотели, чтоб и ты был святой».
Отец Герасим не опечалился происшедшим. Он только ужаснулся черствости человеческого сердца. Кое-как оправившись после погрома, отец Герасим принялся за свои беседы с двойной энергией. «Слишком каменистая почва, – думал он, – но не может быть, чтобы люди возненавидели свое собственное счастье, а ведь это счастье им может дать только Евангельское благовестие».
Вскоре, однако, последовал случай, который резко переменил направление деятельности отца Герасима.
Однажды, по обыкновению, отец Герасим зашел для собеседования в ночлежку. Среди обитателей ее на этот раз было особенно много пьяных. Отец Герасим остановился возле одного, лежавшего ничком на нарах в полубессознательном состоянии, в луже собственной блевотины, и, указывая на него другим, повел беседу против пьянства. Гневно и грозно клеймил он порок, пылко и красноречиво доказывал необходимость трезвости. Долго говорил отец Герасим. Молча слушали его ночлежники, тупо уставившись своими полусонными глазами на пьяного товарища. И только один из них, как бы проснувшись наконец и как-то бессмысленно ухмыльнувшись, процедил сквозь зубы: «Да он уже умер».
Отец Герасим сначала ничего не понял. «Кто умер?» – сорвался у него тревожный вопрос, и вдруг он понял…
Что-то оборвалось, упало, тяжело придавило сердце отца Герасима и острой болью бросилось ему в мозг. Растерянно стоял он возле трупа человека, над которым только что демонстрировал свою беседу, и с мучительной тоской глядел на него, смутно пытаясь постичь какую-то тайну, оставшуюся скрытой от него до сих пор.
Кто-то из ночлежников повернул труп на спину, чтобы дать ему положение покойника. Глаза были открыты, и покойник уставился на толпу мертвым взглядом. Сколько ужаса, страха, отчаяния и страдания было в этом застывшем взгляде! Отцу Герасиму приходилось раньше хоронить умерших в пьяном виде, но ничего подобного он не наблюдал. Там смерть накладывала печать бессмыслия; тут же одна бесконечная мука. О ней говорили и судорожно сжатые костлявые руки, и страшно худая, впалая грудь, едва прикрытая лохмотьями, которые, как теперь только заметил отец Герасим, кишели насекомыми.