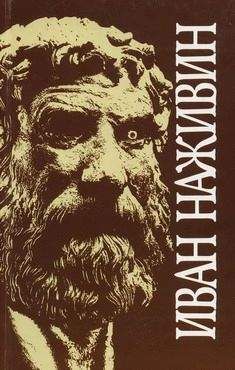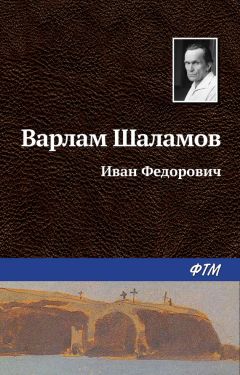улыбнулся Бог.
– Не оставляй! – попросил Иван Фёдорович, боясь, что Господь в ироническом смысле улыбнулся. – А то, может, правда, приходи к нам, на Гривку? Посидим с удочками. Я тебя с Аркадьичем познакомлю. Покалякаем о том, о сём. А? Ну? Третьим будешь?
– Где двое или трое соберутся во имя моё, там и я среди них, – улыбнулся Бог.
– Ага. Ну, лады!
Иван Фёдорович поколебался немного, протянуть ли Господу руку. Но как–то неправильно это выходило – по–простому слишком, земно. Дёрнулся было хлопнуть по плечу, да вовремя остановился – ещё того лучше, совсем сбрендил!.. Наконец, так и не решившись, подумал сказать простое человеческое «Ну, бывай, что ли!», но язык почему–то сам, против воли хозяина, молвил:
– Благослови, Господи.
И вдруг перехватило дыхание, голова склонилась, и что–то горячее и живое разлилось по сердцу, когда персты Его коснулись чела. Душа, видать, возвращалась в свою обитель.
– Благ будь, человече, – донеслось будто издалека.
Иван Фёдорович закашлялся, выпучив глаза – едва не поперхнулся карамелькой «Фруктовый микс». Ударил по тормозам. И вовремя. Потому что уже загорелся красный. А на перекрёстке вдруг, суматошно взвизгнув покрышками, вылетел на встречную мордатый «Ленд Крузер», извернулся, вывернулся, захрипел, царапая бампером мокрый асфальт, намереваясь превратиться в жука, завалившегося на спину и не могущего подняться…
Кузнечики надрывались в лугах так, что казалось, где–то поблизости работает косилка. В подобравшейся к затону притихшей роще, как певчие на клиросе, начинали вечернюю распевку дрозды. Ветерок игрался с дымом костра, подмешивал к его душноватой горечи медовую накипь с клевера. Жадных до крови комаров ещё не было – не повылазили ещё.
Уха поспевала. Уже и рыбьи души, освобождённые от бренных и мокрых тел своих, вернулись в затон, одухотворили смётанную икру – изготовились продолжать кармическую круговерть.
Водка, заначенная в реке, у бережка, почуяла расправу, похолодела от ужаса. Гремели посудой, доставая миски–кружки; кромсали крупными ломтями хлеб, высвобождали из забутовки огурчики–помидорчики, снаряжали чайник, сглатывали слюну.
– А ты чего это? – удивился Пётр Аркадьевич, кивнув на третью кружку, выставленную на скатёрку.
Но Иван Фёдорович смутился почему–то, ничего не ответил. Он только улыбался странно да, пока доходила ушица, всё поглядывал в луга – не появится ли на горизонте неторопкий силуэт с посохом в руках.
На берегу маленькой и шустрой речушки Гривки, что в нашей губернии протекает, живёт с некоторых пор старенький астматичный мужичонко, на пенсию, по фамилии Цуг. Ранними утрами удит он рыбу, коей в Гривке ещё с советских времен осталось не выловлено – по недосмотру местной рыбоохраны – вот столько и ещё баржа. Если с утра пораньше вы отправитесь босиком по траве в сторону выселок, то непременно увидите соломенную шляпу от неблагоприятных метеоусловий и комаров – это и есть пенсионер Цуг Илья Климович в своей соломенной шляпе. Но только не пытайтесь с ним разговаривать в этот час, потому что он может и обматерить – не со зла, правда, а чтобы рыба шла. Но ведь всё равно неприятно.
В остальное время суток пенсионер Цуг занимается литературным творчеством, потому что чем ещё пенсионеру на пенсии заняться, сами посудите. Пишет Илья Климович очень складно и крайне жалостливо. Делает он это не по велению души, а с личным умыслом. Написав новую небылицу, торопится он из дома в дом, со двора на двор, со старым бухгалтерским по́ртфелем доперестроечного образца в одной руке и с литровой банкой – в другой.
Зайдя в хату, Климыч собирает всё её население в круг, вручает самой главной бабе принесённую тару и усаживается поблиз. Далее он достаёт из по́ртфеля свежую рукопись и начинает чтение душещипательного рассказа о тяжелой женской доле и несчастной любви. Не проходит обычно и четверти часа, как в банку падает первая мутноватая и жалостливая бабья слеза.
Илья Климович пристально следит за тем, чтобы ни одна капля не упала мимо банки, не была бы размазана по щеке или смешана с некстати набежавшей скорбной соплёй. И что вы думаете, к вече́ре таки набирается если не полная банка жалости, так уж грамм на девятьсот – это как пить. Где, бывает, и мужики смахнут мокреть с седого прокуренного уса, а уж молодые девки ревут так, что на церкви колокола гудят. Вот.
Аккуратно приладив к таре крышку, Климыч возвращается к себе. Там он, приняв во здравие своё четверть самогона, выгнанного бабкой Митришной, что с выселок, принимается за наловленную с утра рыбу. Да, таки натурально засаливает её в горючей бабьей слезе да ему одному ведомых специях.
На следующий день рыбка уже вывешена у него на дворе, на щедром летнем солнце – вялится. А как вызреют речки Гривки дары, так собирается Илья Климович в город, на рынок, коммерсант хренов.
И что я вам скажу. Мужики–пиволюбы за Цуговой рыбкой в очередь толпятся и чуть морды друг другу не квасят! Это я сам лично видел. По ста рубликов за рыбёшку имеет на бабьей жалости капиталист! Лучше Цуговой, говорят, рыбки к пиву ну ничего нет. Как, вроде, в господней моче рыбёха вымочена – такая у неё вкусность, такое благообразие после неё наступает и осветление души. Единственный, говорят, побочный эффект отмечается – жалостливость ко всей бабьей нации такая просыпается, что жить порой не хочется. Придёшь, мол, домой, уткнёшься в подол жене и ну реветь, чисто теля. Жалеешь её, чуть пятки не целуешь. А бабе чего ещё надо для её недолгого бабьего счастья… Она тебе и пиво простит и ублажит телесно – в смысле и борща и чего посолоней.
Уже и заграница Цуговой рыбкой заинтересовалась. Переговоры ведут о покупке лицензии.
Да только Климыч – ни в какую. Я, говорит, соль души русской, бабьей, никогда проклятой Антанте не продам. Я, говорит, и Родину–то в своё время не продал, хотя допуск имел. И на том, говорит, – баста.
Вот такая история. Не вру ни разу.
Янош обнаружил его совершенно случайно, когда пришёл домой. Странно, что этот человек не нашёл лучшего места, где повеситься.
Тело висело прямо в прихожей, на крюке, который держал лампу. Лампа была снята и аккуратно поставлена на старый комод. И даже пыль с плафона висельник сначала тщательно стёр, чего давно уже не делал Янош. Тут же была аккуратно сложена одежда, принадлежащая телу, а само тело – совершенно нагое, но в шляпе – висело на крюку, как уже и было сказано. Шляпа