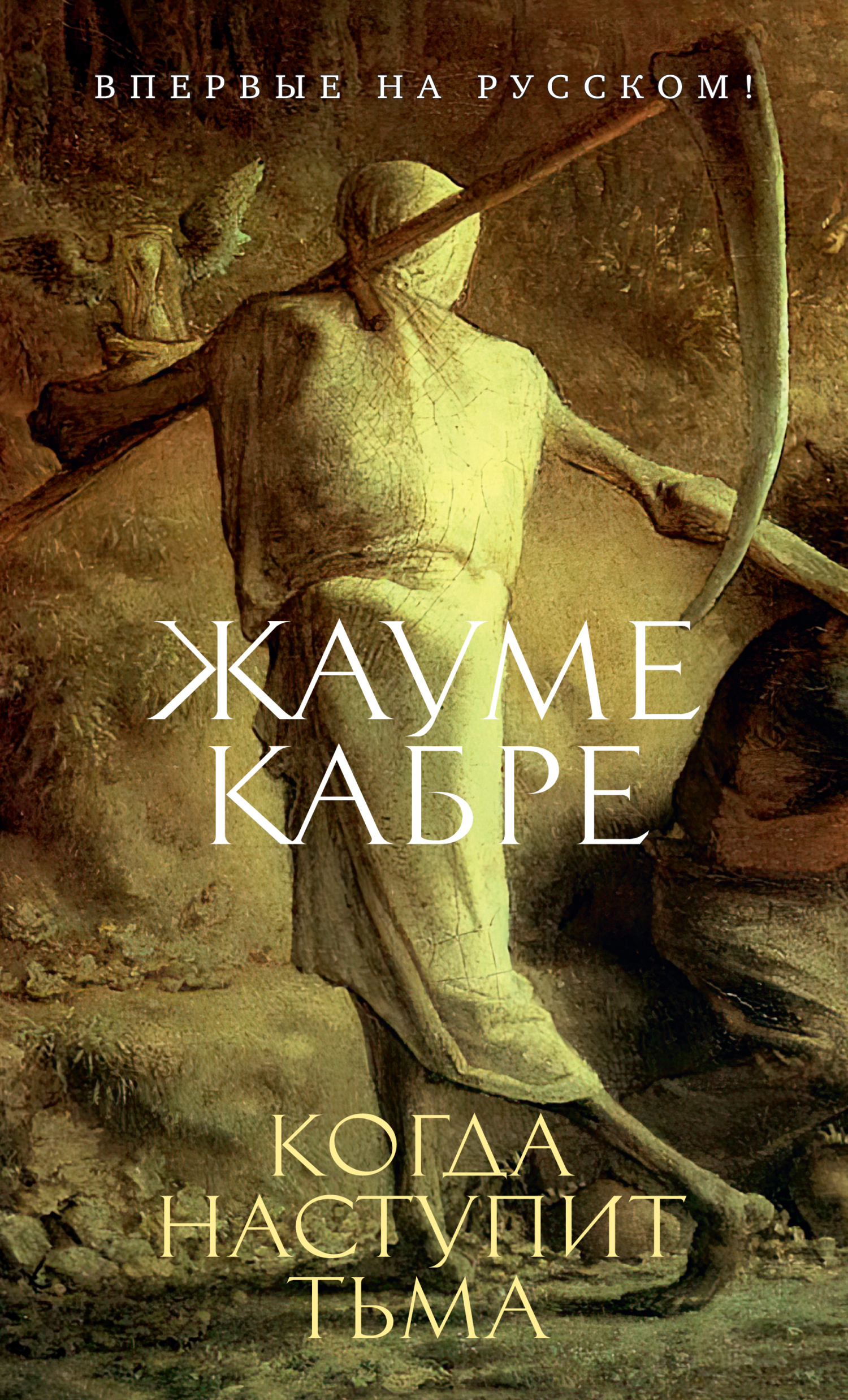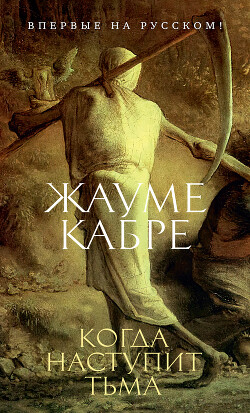души знал, что это было только началом войны, в которую он впутался. Ему было слышно, как в интернате кто-то кричал и негодовал, и он молча улыбался, как Берт Ланкастер [1], хоть еще никогда и не видел его в кино. До него доносился шум и топот. И вот в один прекрасный день на смену окрикам Энрикуса и его резкому голосу пришел пронзительный свисток, который Эй-ты сразу же, с первой же минуты, возненавидел. Мне это все преподнесли на блюдечке, когда я вернулся героем в палату номер три. Эй-ты навсегда разучился бояться, потому что с честью выдержал взгляд настоятельницы. Потому-то он и вернулся из крысиного чулана с самодовольной улыбкой, сразившей его приятелей наповал.
– А имя у него есть, у этого типа со свистком? – спросил он, даже не удостоив взглядом тех троих, стоявших вокруг него.
– Игнази, но мы зовем его Игнациус.
– Все ясно. Слушай, Томас, кто такой шарлатан?
– Точно не знаю. Ругательство какое-то.
– Значит, мать настоятельница меня обозвала неприличным словом. Может, укокошим ее за это?
Все четверо расхохотались. Им нравилось снова быть вместе. Но Эй-ты, герой, покоритель бесплодной пустыни, казался выше всех ростом и самым отважным, и Томас понемногу с этим смирился.
Шли дни, наши плечи окрепли, грудь обросла волосами. Эй-ты пережил пару стычек с Игнациусом, что было само по себе неизбежно: тот время от времени виделся с Энрикусом и просил у него совета; а бывший надзиратель, без сомнения, не упускал удобного случая выставить Эй-ты в худшем свете, как ябедника и болтуна. Игнациус взял себе в привычку, по примеру Энрикуса, свистеть из своего свистка Эй-ты в лицо, подойдя к нему поближе, как будто нечаянно. А Эй-ты улыбался и терпел, потому что считал себя выше добра и зла. До того самого дня, когда, улыбаясь, смазал ему кулаком по губам, чтобы загнать свисток в глотку, а дети залились смехом, потому что чувствовали, что Эй-ты теперь главный, и Эй-ты подумал, что все пошло бы отлично, если бы не было того, что было.
Иногда наступало лето, и многих мальчишек на несколько недель забирали домой; в интернате оставались только те из нас, у кого не было никаких, то есть совсем никаких родных. И мне казалось, что я научился не думать ни об отце, ни о матери, вообще ни о ком, даже когда в монастыре было тихо. И так катилось лето за летом.
4
Когда все формальности были соблюдены, а монахини угомонились и перестали скользить по лестницам вверх и вниз, заглядывая в папки и собирая бумаги, именно Игнациус распахнул зарешеченные ворота, желая удачи тем из нас, кто с небольшой суммой денег в кармане в качестве прощального подарка уходил во взрослую жизнь, потому что для приюта мы по возрасту уже не подходили, а никто из родственников не согласился забрать нас к себе. Когда подошла моя очередь, вместо того чтобы пожелать мне удачи, как тем троим или четверым, за кем я следовал в тот летний день, Игнациус замялся и прошипел: «Эй-ты, иди в жопу». С деньгами в кармане Эй-ты чувствовал, что непобедим: он подошел к Игнациусу нос к носу и сказал, хочешь, я снова загоню тебе в глотку свисток, паскуда? И спокойно вышел за зарешеченные ворота богоугодного заведения, дававшего ему приют в годы детства и отрочества. Оттого, что он вдруг оказался на улице без всяких средств к существованию, кроме рук в карманах и бумажки с тремя адресами, по которым ему, возможно, нашли бы какую-нибудь работу, ему было ни жарко ни холодно. По дороге на трамвайную остановку мне показалось, что я услышал за спиной шелест монашеского облачения, но я даже не обернулся. Я был у истоков своего славного будущего, и мне хотелось встретиться с ним лицом к лицу.
Дверь не открывали. Возможно, это было даже к лучшему; но он знал, что больше никогда по этой лестнице не поднимется. И на всякий случай нажал на кнопку звонка. Звук раздавался ржавый и пыльный. Он огляделся вокруг, на темную и тихую лестничную клетку, на окна с потускневшими и грязными стеклами в каждом лестничном пролете. Никаких воспоминаний об этом у него не было; как будто он пришел сюда впервые. Он еще раз позвонил в дверь. И на несколько мгновений подумал, а лягу-ка я спать прямо тут, на лестничной клетке, и если он еще жив, то пусть меня разбудит, когда вернется. И тут Эй-ты услышал шарканье еще довольно бодрых шагов, приближавшихся к двери.
– Кто там?
Голос был унылый, почти незнакомый. Вместо ответа он снова нажал на кнопку звонка. Послышалось бренчание засовов и цепочек, и дверь открылась. Свет в квартире был тусклый, а человека, который его удивленно рассматривал, он не узнал.
– Чего тебе?
Он так долго ждал этой минуты, что не знал, какие именно выбрать слова.
– Привет.
Мужчина напряженно вгляделся в непрошеного гостя. Потом вынул из кармана очки и нацепил их. И дальше смотрел на него, не понимая, в чем дело.
– И что? – спросил он, нетерпеливо вздыхая.
– Ты обещал, что будешь навещать меня каждое воскресенье. И за двенадцать лет воскресений прошло немало.
– Да кто ты такой?
– И каждое воскресенье я говорил себе: сегодня, я уверен, он придет и принесет мне сладкой ваты на палочке.
– А, сука, вот ты кто. Ну и вымахал ты.
– Да. Я все думал: у моих одноклассников есть фотографии с родителями, но вот сегодня ко мне придет папа, и мы тоже сфотографируемся. Можно я зайду?
– Ну и как твои дела, – промямлил человек без всякого интереса.
– Каждое воскресенье я ждал, что в это воскресенье ты придешь. И все напрасно. Ты что, работал не покладая рук?
– Да уж на месте не сидел.
– Можно я зайду?
– Не надо. У меня тут все очень…
– Пойдем пообедаем, тут внизу есть ресторан. Мне дали пятьдесят песет…
– Гляди-ка, как тебя балуют.
– Мне их дали, чтобы я нашел работу.
– А, ну тогда…
– Да.
– Ты очень возмужал.
– А ты осунулся.
Эй-ты поглядел на него, надеясь, что отец даст ему войти.
– Ну? – нетерпеливо спросил он.
А тот стоял как истукан, все подпирая дверь, как будто боялся, что она на него рухнет. Эй-ты продолжал настаивать:
– Как ты думаешь, папа, что мне теперь делать?
– Послушай, сейчас я очень занят. Давай-ка лучше…
– А мама, что с ней произошло? Из-за чего она покончила с собой?
– Поверь мне, лучше не копаться в этом дерьме.
– Из-за чего она покончила с собой?
Его отец