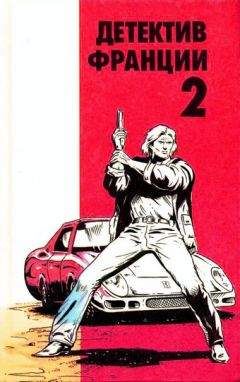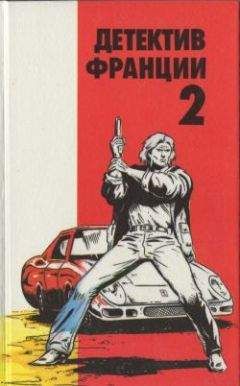он даже возомнил, что все еще находится на каникулах у своего друга Харгривза в Лондоне, и проехал весь город по левой стороне улицы… Весь город знал о его проделках, это всех забавляло и никого не злило. Порывистый, рассеянный, очаровательный и, как химик, совершенно гениальный.
Мы уже подходили к дому, когда белый гравий захрустел под весом, превышавшим вес наших тел. На миг по нам мазануло двумя кисточками света. Как смерч, пронеслась машина. Стрельнув лучами в сторону, перекрыла поворот аллеи и осела на колесах в нескольких сантиметрах от нас. Сомнений не оставалось. Кто еще мог так тормозить? Хлопнула дверца. Я очутился в объятиях матери, от ее пылкого поцелуя у меня перехватило дыхание. Затем, взяв себя в руки, она отступила и оглядела меня. Я стоял в ярком свете под прицелом автомобильных фар и едва различал ее очертания. Она была в широком норковом манто, без шляпы. Ее черные, как тушь, волосы чуть серебрились от электрических бликов. Она была все такой же: гибкой, изящной, непреклонной, страстной. Она засмеялась своим звонким металлическим смехом.
— Фрэнки, все такой же увалень.
В ее тоне было все: ласковая, хотя и чуть высокомерная снисходительность, которая распаляла во мне желание стать кем-то выдающимся, скрытое волнение, соответствующее ее истинным чувствам, тепло и чувственность, излучаемые ее лицом и угадываемые в мельчайших складках платья. В свои пятьдесят лет моя мать казалась моложе меня.
— Вэнис, — сказала Салли, — сегодня лучше не дразнить его. Подождите до завтра. Пойдем, Фрэнки-бой.
Прозвище, которое она с Марком дала мне, когда я пытался подражать Фрэнку Синатре, в апреле сорок пятого, во время последней увольнительной Марка. Я взял Салли за руку, обнял мать левой рукой.
— Вэнис, — произнес я, — полковник американской армии не позволит так обращаться с собой даже своей матери. Извольте держаться приличий и, обращаясь ко мне, не забывайте говорить «сэр».
Она снова засмеялась. Ее смех звучал так же чисто, как хрустальный звон, который Вайли извлекал из колокольчика, призывающего к ужину. Позади нас свет от фар «кадиллака» {25} разрывал тень и выдергивал из кустарника последнюю белизну «Осенней Королевы». Пока мы поднимались по ступенькам к входной двери, чтобы выпить по последнему highball перед моей первой после возвращения домашней трапезой, я вновь задумался об Эллен Брейстер.
На следующее утро, когда я проснулся, декабрьское солнце изо всех сил старалось оживить мне комнату. Циферблат под моим беглым взглядом показал девять часов. Принять душ, побриться, одеться и позавтракать: времени оставалось лишь на то, чтобы приехать вовремя к назначенной встрече.
Я поднял оконную фрамугу, высунулся и глубоко вдохнул влажный воздух сада. На темной зелени лужайки разноцветные листья сбивались в хорошо известную мне картину, полную блеклых и стертых воспоминаний, одновременно нежных и грустных. Гоня прочь печальные мысли, я включил радио и начал искать что-нибудь поэнергичнее. Немного джаза меня бы взбодрило. В считаные секунды я нашел передачу местного диск-жокея, вкусы которого — по мере чередования восковых пластов {26} под его проворными пальцами — показались мне достаточно близкими, чтобы сразу занести его в категорию «людей рукопожатных». Оставив дверь открытой, я прошел в ванную.
Через полчаса я уже выходил свежевыбритым, в цивильном костюме из саржи, чья нежная синева казалась мне райской после ненавистного цвета военной формы, и галстуке, пестром галстуке в стиле «техниколор» — естественная реакция на желто-зеленую тусклость, в которую меня так долго рядили; на руке свисал светлый плащ, на голове сидела серая фетровая шляпа, к которой меня тянуло с того самого момента, как я ступил на родную землю. Бодро посвистывая, я направился к гаражу, позади лаборатории, расположенной слева от дома, если стоять лицом к фасаду. Я прошел мимо маленького окошка, где уже горел оранжевый свет, но, к сожалению, не успевал повидаться с Герцогом, так как время торопило.
Железные ворота были подняты; я вошел. В гараже стояли «кадиллак» Вэнис, «меркюри» отца и старый «линкольн»-купе, которые мы делили с Марком {27}. Благодаря заботам водителя Хьюго «линкольн» сохранял изначальный шик и не очень проигрывал двум соседним, более современным машинам. Капот был опущен, и я, предвкушая удовольствие, подумал обо всех тех поездках, которые себе наобещал.
— Ну что, поехали, Фрэнки-бой?
Похоже, о поездках подумала и Салли. Она уже сидела за рулем и кивала на открытую дверцу.
— Поработаю твоим водителем, — сказала она.
Я посмотрел на свою руку. Возможно, это предложение я истолковал превратно.
— Не такой уж я и инвалид, — сухо обронил я.
И понял, что обидел ее. Но ощущать собственную ущербность тяжело, и, к сожалению, я в очередной и явно не последний раз выказал себя слишком обидчивым. Она закусила нижнюю губу, свою красивую, по-детски чуть припухлую губку, и заявила:
— Фрэнки, ты мерзкий тип.
Я ловко сел на переднее сиденье и нежно обнял ее.
— Не обращай внимания на брюзжание старого полковника. Ты — классная, Салли. Давай, трогай.
Конечно же, я ошибся. Конечно же, я превратно истолковал то, что было всего лишь сестринским жестом, удовольствием вновь пообщаться со сверстником. Салли, наверное, жилось не очень весело в Блэк-Ривере, в этом большом доме из белого камня, где она осталась с моими родителями после смерти Марка.
— Ты знаешь, куда мы направляемся? — спросил я.
— Прошу прощения, Фрэнки, но я слышала, что ты говорил по телефону вчера вечером.
— Ничего секретного, — сказал я. — Я еду к Нарциссу Роузу. Дрим-стрит. В Стоун-Бэнке.
Машина выехала за ворота и повернула налево. Салли вела хорошо. Мне оставалось только откинуться в кресле и расслабиться. Я рассматривал свои замшевые туфли. Замшевые! Представляете?
— Туфли у тебя ужасные, — заметила Салли.
Замечание меня задело. Я приосанился.
— И галстук жуткий.
— Да уж! Ты умеешь взбодрить!
Она улыбнулась, продолжая следить за дорогой. Я повернулся к ней, чтобы лучше рассмотреть ее. Красивое зрелище. На ней была черная бархатная шапочка, черный костюм, черные ажурные туфли и черные короткие перчатки с широкими манжетами. Ее раскосые глаза чуть поднимались к вискам и прикрывались самыми красивыми ресницами Блэк-Ривера.
— Не дуйся, — продолжила она. — Я понимаю, что ты должен сейчас ощущать. Если бы у тебя был ярко-красный костюм, ты бы его наверняка надел, да?
— Да, — решительно ответил я.
— Марк был таким же, когда приезжал в увольнение, — ровно и спокойно произнесла она.
— Не думай о Марке, — сказал я. — И потом, может быть, не стоит все время ходить в черном.
— Это вовсе не потому, что я хочу носить траур. — Она замолчала и