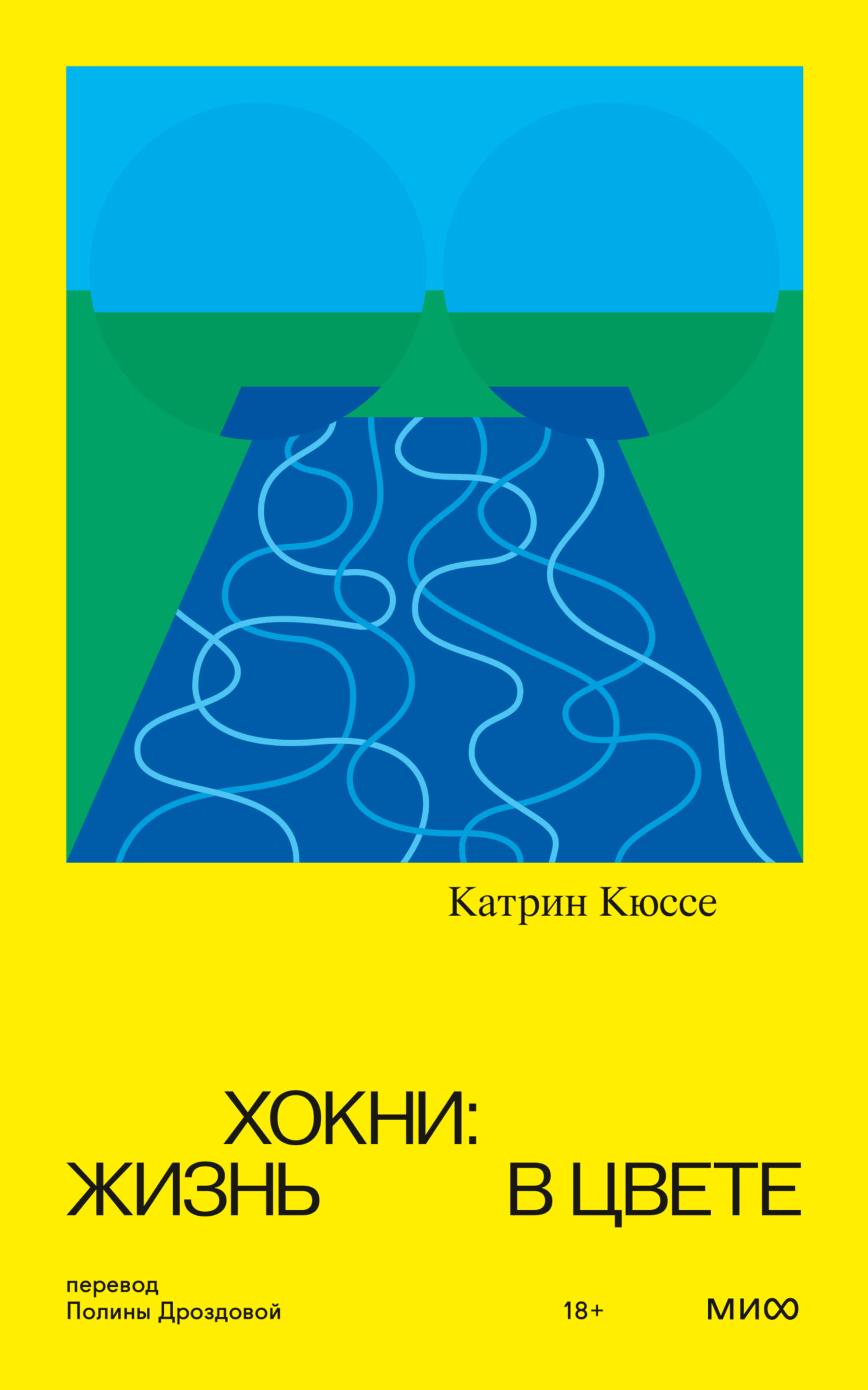галерее Тейт зимой 1959 года и открыл для себя имена де Кунинга [6], Поллока, Ротко, Сэма Фрэнсиса [7] и Барнетта Ньюмана. Эта выставка, а затем и выставки в галерее Уайтчепел перевернули его представление об искусстве. Нужно было быть современным – или никаким.
Какой должна стать его первая картина? Однозначно – не нарративной. К тому же у него был сильный йоркширский акцент, и он приходил в ужас от мысли, что его примут за провинциала, за художника-любителя. Нужно было опереться на что-то незыблемое: на рисунок. Источником вдохновения стал для него человеческий скелет, висевший в одной из аудиторий. Скелет – это было оригинально. Большой, детально проработанный рисунок должен был продемонстрировать его совершенные познания в анатомии и перспективе.
Его скелет оценили все. Ловко сделано, как ему говорили. Он выдержал первое испытание, его не подняли на смех. Он чувствовал себя немного свободнее. Один из его товарищей даже предложил ему за эту картину пять фунтов. Это был американец, богатый студент – бывший солдат, приехавший в Лондон благодаря щедрому военному пособию. Нужно было быть американцем, чтобы иметь возможность платить по пять фунтов за ученический рисунок. Рон был на пять лет старше него, он был женат и имел ребенка. У него был настоящий дом, в отличие от Дэвида, делившего с другим студентом крошечную комнату в оживленном квартале Эрлс Корт. Рон рисовал очень медленно, и его мало беспокоило, что думают о нем окружающие. Независимость его духа напоминала Дэвиду упрямство его собственного отца. Они стали друзьями. Оба приходили в школу рано утром – раньше всех остальных товарищей – и вместе пили чай, прежде чем приняться за работу. Они говорили об искусстве: истории искусства и современности. Дэвид уже давно знал, что художники, знакомые ему по Брэдфорду, включая преподавателей в художественной школе, не были настоящими художниками. Теперь он понимал почему: они не задавались вопросом о своем месте в истории искусства. Нельзя быть настоящим художником, если не ставишь перед собой этот основополагающий вопрос и не находишь на него ответ. В нем больше не было ничего общего с тем невинным юнцом, который беззаботно проводил лето, слоняясь по улицам с коляской, набитой кистями и тюбиками краски, и останавливаясь то тут, то там, чтобы написать дерево или дом. Фигуративная живопись хороша лишь для производителей постеров или рождественских открыток. Он едва не угодил в эту ловушку, но новая атмосфера, в которой он очутился, раскрыла ему глаза: он будет современным художником. Рон качал головой и улыбался.
Казалось, Дэвид должен был быть счастлив. Он сделал все, чтобы его приняли в этой школе. В день объявления результатов у него было чувство, что он пролез сквозь игольное ушко, попал в рай, спасся от жизни под бременем наемного труда, которую вели его сестра, братья и их соседи в Брэдфорде. В течение тех двух лет, что работал в больнице, он мечтал о своей будущей жизни и воспитывал в себе терпеливое ожидание, зная, что придет миг освобождения, который пробудит его от векового сна. И вот наконец он был свободен, но долгожданное, желанное счастье, бывшее теперь так близко, от него ускользало. Впервые в жизни он не испытывал радости от рисования, а чувствовал странное равнодушие к своей работе, утратил энергию и энтузиазм. А что, если он обманывался, был всего лишь самозванцем? Американец слушал, как его молодой, двадцатидвухлетний, друг, совершенно потерянный, изливает свои страдания. Они разговаривали и на другие темы: о политике, литературе, дружбе, любви, вегетарианской диете, которой Дэвид придерживался, как и его родители. Его ежедневные беседы с Роном позволяли ему чувствовать себя по меньшей мере не так одиноко.
«Тебе надо бы рисовать то, – однажды сказал ему Рон, – что важно тебе самому. Не стоит беспокоиться. Ты в любом случае современный художник. Просто потому, что живешь в современности».
Это была интересная мысль. Бесполезно стараться принадлежать своему времени: ты в любом случае ему принадлежишь. В самом деле, фигуративные работы Рона вовсе не выглядели как созданные в эпоху Мане или Ренуара. Так или иначе что-то должно было измениться. Если бы Дэвид не обрел вновь вкус к рисованию, он бы закончил как старый высохший лимон, оставленный на кухонном столе. Вот именно: ему хотелось изображать овощи и фрукты. Никто не смог бы обвинить его в несовременности, так как их круглые формы выглядели довольно абстрактными. Но в его сознании это были овощи и фрукты. Потом он написал коробку чая Typhoo, из которой он брал пакетики по утрам, приходя в школу, – ту самую коробку чая, что напоминала ему о матери и приветствовала его каждый новый день. У него родилась мысль добавлять к словам Typhoo Tea – «Чай Typhoo» – то тут, то там букву или цифру, которые заставляли подойти к картине, чтобы их разобрать. В этом была толика человечности, проникшая как бы контрабандой. Буквы и цифры вели диалог со зрителем, а не оставляли его в стороне, как абстрактная живопись.
Рон делил свое место в мастерской, у прохода, с еще одним студентом, и когда Дэвид после обеда приходил его навестить, он болтал и с его соседом. Эдриан был геем. Это был первый человек, встретившийся Дэвиду за двадцать два года его жизни, который открыто заявлял о своей сексуальной ориентации. Он уже давно знал, что ему нравятся мужчины, но его интимная жизнь сводилась почти к нулю, ограничиваясь редкими тайными свиданиями – о них он никому не рассказывал – в местах, куда он ходил один. Однажды товарищ сказал ему, что видел его в таком-то пабе с каким-то типом и то, чем они занимались. Дэвид покраснел, ужасно взволнованный злополучным совпадением, приведшим знакомого ему студента в бар, который находился довольно далеко от их школы и где его тискал незнакомец, часом ранее встреченный им в кинотеатре на Лестер-сквер. После того как прошел первый шок, собственная реакция привела его в ярость. Покраснел бы он, если бы товарищ застукал его с девушкой? Да и сам этот студент разве хоть слово сказал бы? Кто дал ему право обращаться к нему с такой насмешливой развязностью? Дэвид сделал рисунок под названием «Стыд», где единственной узнаваемой формой были очертания эрегированного пениса на переднем плане. И, слушая, как Эдриан болтает без умолку о своих гомосексуальных приключениях, он мечтал: «Вот так я хочу жить». Эдриан посоветовал ему почитать американского поэта Уолта Уитмена [8], которого Дэвид знал, и греческого поэта Константиноса Кавафиса [9], о котором он никогда не слышал.
Тем летом, когда Дэвиду исполнилось двадцать три года, он прочитал Уитмена и Кавафиса. Если первого найти было достаточно легко, то со вторым пришлось сложнее. В