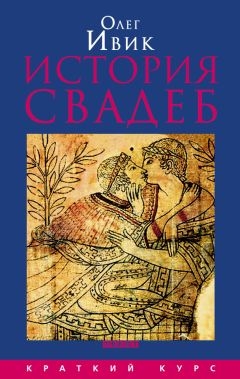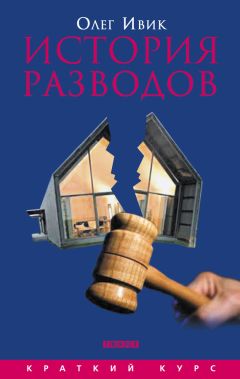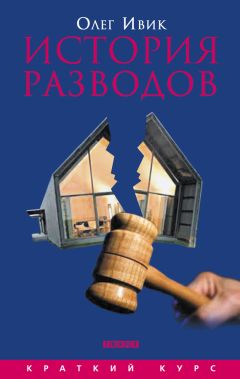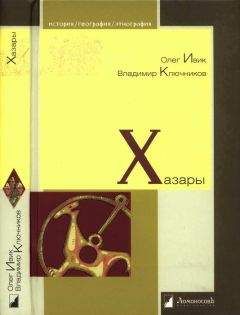немытых мужских тел — запах, который для большинства моих женщин прочно связан с любовью (они будут тайком спускаться сюда, тянуть ноздрями грязный сырой воздух, и что-то начнет сладко ныть у них внизу живота, и соски набухнут, как желуди...).
Но им недолго радоваться — Евринома, может, и не видела ничего вокруг, кроме своих табличек, но зато старая сука Евриклея видела все. А может, и не видела, но каким-то ей одной присущим чутьем она всегда знает, кто из рабынь спускался в подвал и с кем, и кто разбил амфору с хорошим оливковым маслом, и кто отдавался молодому свинопасу Месавлию под его телегой вместо того, чтобы сидеть за пряжей. Иногда мне кажется, что Евриклея тоже ведет какие-то записи, что-то корябяет на глине о всех нас, живущих в доме. Вот вернется Одиссей, и она вытащит свои таблички и в точности вспомнит, кто и чем занимался эти годы, кто и как провинился перед отсутствующим мужем и господином. А пока он не вернулся, после отъезда возчиков она сама отведет провинившихся рабынь в закуток между забором и круглым сараем, прикажет им снять туники и по очереди привяжет каждую к столбу, который здесь специально для этого врыт в землю. У Евриклеи тяжелая рука, девчонки будут визжать и извиваться под ударами кожаной плетки. Здесь, в закутке, пахнет мочой, кровью и страхом. Это тоже запах любви — он идет за ней следом, он неизбежен, и каждая из моих женщин знает это... И когда они в сыром подвале, на мокром от вина полу, извиваются под ударами пастушеских бедер, они, наверное, невольно думают об ударах плети, которые им предстоят сегодня вечером...
Когда свекровь умерла и я стала хозяйкой в доме, я вызвала Евриклею и сказала ей, чтобы она не наказывала рабынь без моего разрешения. В конце концов, для того боги и создали женщин, чтобы они отдавались мужчинам. И я не хотела, чтобы она истязала девчонок, которые отдаются пастухам и возчикам, тем более что толку от этих наказаний нет никакого.
Евриклея посмотрела на меня так, как будто это я была рабыней, а не она. Нет, она будет поступать, как велит ей долг перед ее богоравным господином, который не щадя себя сражается под стенами Трои. Вот уже полвека она живет в этом доме и верно служит своим хозяевам и собирается верно служить им и впредь. Ей было всего пятнадцать лет, когда ее привел сюда отец Одиссея, Лаэрт, заплативший за нее двадцать быков, — а это немалая цена, и она гордится ею. Лаэрт с первого дня чтил ее наравне со своей достойной супругой, он доверил ей все хозяйство, он даже не принуждал ее делить с ним ложе. Когда богоравная супруга Лаэрта, Антиклея, родила Одиссея, ребенок был передан ее, Евриклеи, попечению, и она вскормила его своей грудью. А я, Пенелопа, — девчонка, которая появилась в этом доме совсем недавно и за которую никто и десяти быков не дал бы... О последнем Евриклея не сказала прямо, но намекнула — яснее некуда. Одиссей действительно не платил выкупа моему отцу — он получил меня, выиграв состязание в беге, — в этом смысле Евриклея обошлась семейству Лаэрта дороже, чем я... Короче, она сказала, что будет поступать так, как привыкла. А я могу жаловаться на нее Одиссею, когда он вернется из-под стен Трои, — она как верная рабыня подчинится его приговору.
Я могла бы продать Евриклею заезжим купцам (хотя теперь за эту старую суку дорого никто не даст)... Я могла бы отослать ее в мастерскую, где мои женщины прядут и ткут шерсть, и посадить за ткацкий станок... Я, ее госпожа, царица Итаки... Но я не посмела сделать это. И она продолжает править домом — хлопотливая, безжалостная, добросовестная — мечта любого домовладельца.
А Евринома все пишет и сушит свои таблички — она тоже на редкость добросовестна...
Всю тебе правду скажу я, мой сын, ничего не скрывая.
В доме у нас пятьдесят находится женщин-служанок.
Все они всяческим женским работам обучены нами,
Чешут шерсть и несут вообще свою рабскую долю.
* * *
С факелом в каждой руке впереди его шла Евриклея,
Дочь домовитая Опа, рожденного от Пенсенора.
Куплей когда-то Лаэрт достояньем своим ее сделал
Юным подросточком, двадцать быков за нее заплативши,
И наравне с домовитой женой почитал ее в доме,
Но, чтоб жену не гневить, постели своей не делил с ней.
Однажды я следом за Евриномой зашла в кладовую и увидела в темном углу, под рогожей, несколько десятков корзин с глиняными табличками. Они были покрыты пылью и, наверное, скопились здесь за многие годы. Я никогда не представляла, что ключница все это хранит, —собственно, я вообще об этом не задумывалась.
— Зачем они тебе, Евринома? Ведь это все уже давно съедено и выпито, и никто не потребует от тебя отчета. Выбрось их, а корзины помой и используй для чего-нибудь нужного.
— Что ты, госпожа! — Евринома испугалась, как будто я предложила ей совершить святотатство. — Надо хранить память о былом. Еда съедена, и люди, которые ее съели, умерли или уехали. А на табличках все это живо, и значит, эти люди тоже немножко живы. Вот мы умрем, а здесь мы пируем, и едим мясо и жирные лепешки, и пьем вино. И всегда будем есть и пить...
Она порылась в одной из корзин.
— Смотри, госпожа, это твоя свадьба с богоравным Одиссеем. Ты помнишь, как вы приплыли на Итаку и в первый же день царь созвал своих друзей, и старейшин, и самых уважаемых людей... А за теми, кто жил на окрестных островах, он отправил свои корабли. Три корабля: на Закинф, Зам и Дулихий. И еще один корабль на материк. И десять пеших гонцов на южную часть Итаки. Уже в первый день во время жертвоприношения было съедено тридцать быков. Наш Одиссей, может, и не самый богатый из ахейских царей, но свадьбу он сыграл богатую. Твои внуки и правнуки найдут эти таблички и будут восхищаться тем, как он почтил свою молодую супругу... О его подвигах и без того споют аэды,