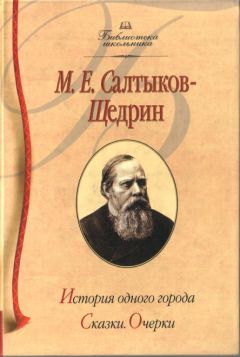— Уйму, я ее уйму!
И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро, созвавши будочников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес:
— От сих мест — до сих!
Как ни были забиты обыватели, он и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтоб возроптать, но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают.
— Гони! — скомандовал он будочникам, вскидывая глазами на колышущуюся толпу.
Борьба с природой восприяла начало.
Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы Глупова сделались неистощимыми и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежавших ее эксплуатации.
Много было наезжих людей, которые разоряли Глупов; одни — ради шутки, другие — в минуту грусти, запальчивости или увлечения; но Угрюм-Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонною. Но слепая стихия шутя рвала и разметывала наносимый ценою нечеловеческих усилий хлам и с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щепки, навоз, солома, мусор — все уносилось быстриной в неведомую даль, и Угрюм-Бурчеев, с удивлением, доходящим до испуга, следил «непонятливым» оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений.
Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал Угрюм-Бурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал:
— Гони!
Появлялись новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно нарастали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец привели и предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако предводитель пошел не сразу, но протестовал и ссылался на какие-то права.
— Гони! — скомандовал Угрюм-Бурчеев.
Толпа загоготала. Увидев, как предводитель, краснея и стыдясь, засучивал штаны, она почувствовала себя бодрою и удвоила усилия.
Но тут встретилось новое затруднение: груды мусора убывали в виду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду, на которую Угрюм-Бурчеев надеялся как на каменную гору. Река задумалась, забуровила дно, но через мгновение потекла веселее прежнего. Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, словно миллионы неведомых гадин разом пустили свой шип из водяных хлябей. Затем все смолкло: река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне.
К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, обломки изб и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, Угрюм-Бурчеев ничего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться.
— Тако да видят людие! — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон; но потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будочникам и приказал согнать городских попов:
— Гони!
Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль…
То же произошло и с Угрюм-Бурчеевым. Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как за эту мысль никто не угрожал ему шпицрутенами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море — значит, есть и флоты; во-первых, разумеется, военный, потом торговый. Военный флот то и дело бомбардирует; торговый — перевозит драгоценные грузы. Но так как Глупов всем изобилует и ничего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет, другие же страны, как-то: село Недоедово, деревня Голодаевка и проч., суть совершенно голодные и притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу Глупова. Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий.
И что ж! — все эти мечты рушились на другое же утро. Как ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их.
Едва успев продрать глаза, Угрюм-Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приблизившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились; остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах, точь-в-точь как за день тому назад.
Некоторое время Угрюм-Бурчеев безмолвствовал. С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет за волною, сперва одна, потом другая, и еще, и еще… И все это куда-то стремится и где-то, должно быть, исчезает…
Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке.
— Напра-во кру-гом! за мной! — раздалась команда.
Он решился. Река не захотела уйти от него — он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый Глупов, опостылело ему. Там не повинуются стихии, там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег; там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать!
Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец, к вечеру, он пришел. Перед глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры — везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред, точь-в-точь совпадавший с тем бредом, который гнездился в его голове…
— Здесь! — крикнул он ровным, беззвучным голосом.
Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползало на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано названия и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием "дурных страстей" и "неблагонадежных элементов". Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это «иное» появилось тогда в первый раз; нет, оно уже имело свою историю…
Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Ионке Козыре, который, после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам, возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием "Письма к другу о водворении на земле добродетели". Но так как биография этого Ионки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями.
Отец Ионки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия (см. "Сказание о шести градоначальницах"), когда, в течение семи дней, шесть градоначальниц вырывали друг у друга кормило правления, он, с изумительною для глуповца ловкостью, перебегал от одной партии к другой, причем так искусно заметал следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшею и солиднейшею поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираидки, потом войска Клементинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Дуньку-толстопятую и Матренку-ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял, а так как для Мальки, Нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями.