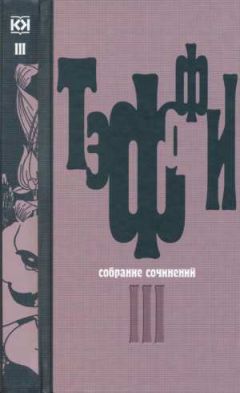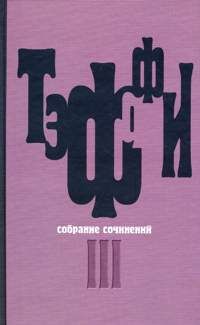– Клянусь! Только приходите. Я раб ваш… я ничего не понимаю. Я идиот, и мне пора на вахту.
– Не двигайтесь. Я уйду прежде.
– Нич-чего не понимаю!
* * *
Богратова долго улыбалась, лежа на своей койке.
– Я заставлю его этими ночными беседами безумно влюбиться и жениться на Машеньке. Вот дивное приключение! Совсем Сирано де Бержерак. Благодаря моему уму и таланту он влюбится… в Машеньку.
Богратовой было весело.
Весь день она обдумывала, что бы такое особенно яркое сказать, что продекламировать, как себя держать.
Наблюдала – не встретится ли мичман с Машенькой. Нет, мичмана не было видно. Машенька тихо сидела на верхней палубе с книжкой на коленях и не смеялась. Мичман держал клятву.
В половине первого Богратова вышла из своей каюты и тихо, стараясь держаться в тени, полезла за вчерашние мешки. Мичмана еще не было.
– Мне плыть только двое суток. Успею ли за это время?
Прыгая через канаты, тяжело дыша, Костя пробрался мимо.
– Ау! Машенька!
– Садитесь на вчерашнее место и не двигайтесь, а то я убегу.
– Чего вы боитесь, Машенька? Я вас очень уважаю. Мне сегодня хотелось бы очень, очень серьезно поговорить с вами.
– Я вас буду серьезно слушать.
– Весь день я думал о вас. Я видел, как вы сидели с книжкой. Как мог я думать, что вы некультурная девчонка! Вы просто молодая и веселая, а ведь с вами никто и не говорил как следует. Все думают так хорошенькая куколка – и все тут. Но какая вы сегодня были очаровательная с этой книжкой на коленях, казалось, что вы, может быть, тоже думаете обо мне и ждете ночи? Да? Да?
– Молчите! «Мысль изреченная есть ложь» – как сказал великий поэт.
– Дорогая, подождите, поговорим просто. У моих родителей есть именьице…
– О Боже мой! Не надо! Не надо! Разве об этом будем мы говорить теперь, «когда дрожат сердца струны», как поется в романсе… Когда «звезды на небе, звезды на море, звезды и в сердце моем»… Молчите! И потом – я боюсь любви. Я «безумно боюсь золотистого плена»… как сказал бессмертный Вертинский. Ах, нет, молчите, молчите!
– Да я и так молчу.
– Какая ночь! Милый, милый! В такую ночь хорошенькая Джессика… Лимоном и лавром пахнет… Это Шекспир.
– А все-таки было бы хорошо, если бы вы разрешили мне подойти к вам, взять вас за руку и сказать…
– Не смейте! Вы дали слово!..
– Мари! Дорогая! Когда я сегодня смотрел на вас, тихую, милую, с книжкой на коленях, я понял, как я люблю вас, Мари!
Богратова забеспокоилась. Положительно этот идиот сейчас же затеет жениться, все выяснится, а плыть еще двое суток – с тоски помрешь. Только и развлеченья, что его колпачить.
– Мари! Хотите быть моей женой?
Хлоп! Готово! Теперь что же…
– Друг мой! Только не подходите. И завтра весь день опять ни слова. Ночью здесь я скажу вам все. А сейчас я хочу прочесть вам одно стихотворение. Это стихотворение посвятил мне один известный поэт, когда плыл на нашем пароходе. Слушайте:
О, если мне порой в прекрасном сновидении…
Она прочла это стихотворение Байрона и смолкла.
– Н-да-м, – сказал Костя. – Какую массу стихов вы вызубрили. А борщ варить умеете?
– Вы грубы, – проскандировала Богратова.
– Простите, но все так странно. Я предлагаю вам быть моей женой, а вы вместо ответа шпарите стихи какого-то дурака…
– Дурака! Да ведь это Байрон!
– Стало быть, Байрон на вашем пароходе катался? Ловко! Ай да барышня!
– Я… пошутила… это не Байрон. Но почему вы заговорили о… о домашнем хозяйстве? (Я не хочу говорить грубое слово… «борщ».) Точно облагораживающее влияние женщины заключается в том, чтобы угождать низменным вкусам мужа. Я поведу вас неведомыми тропами к сияющим звездам новой зари!..
– Уф! – сказал Костя.
– Что?
– Да ничего, ничего. Валяйте дальше.
Богратова помолчала, потом прочла поэму «Аспазия», потом «Письмо» Апухтина, потом «Довольно, встаньте!». Потом начала было «Разбитую вазу», как мичман вскочил.
– Слушайте, Машенька. Теперь закончим наше литературное отделение. Завтра в это же время вы придете сюда без всяких пряток – надоел этот вздор – и скажете мне человеческим языком, хотите ли вы быть моей женой. А сейчас я должен сменять вахту.
* * *
Богратова осталась немножко разочарованная. – Грубый неуч. Эта дура, пожалуй, совсем ему под пару. Но все-таки я свое дело сделала. Он хочет, чтобы Машенька, то есть я, была его женой. Не та Машенька, которую он видит, а та тонкая, дивная, благоуханная душа, которую я показала ему.
* * *
Весь день Машеньки не было видно. Мичман, злой и нервный, даже не смотрел на верхнюю палубу.
– Уж не переговорили ли они? – встревожилась Богратова. – Надо скорее кончать.
Вечером она закуталась с головою и забилась поглубже за мешки, хотя небо было облачное и луна спряталась.
Мичман был уже на своем посту и сразу услышал ее приход.
– А, вы здесь? – спросил он. – Вот что, друг мой. Я сегодня тороплюсь, и поэтому буду краток. Попрошу вас только об одном: простите меня, не сердитесь, забудьте все, что я наболтал. Выслушайте меня спокойно. Я просто был глуп и молодо влюблен в вас, в вас, хорошенькую Машеньку. Но потом, когда я во время этих ночных свиданий узнал вас по-настоящему, я понял, что мы не пара. Я, очевидно, человек простой, а у вас все какая-то мелодекламация. Родители мои люди старого уклада, именьице маленькое – ну куда вы там со своей декламацией? Отец обидится. Я думал, вы простенькая девочка, что вас немножко отшлифовать… И, главное, – думал, что вы ужасно любите меня… Ну, Бог с вами. Тем лучше. Совесть меня не упрекнет. Я ни слова не скажу вам, будто ничего и не было. А через неделю, а то и раньше спишусь на другой пароход. Прощай, милая моя мечта, радость моя Машенька, капитанская дочка!
* * *
«Как он груб, – думала Богратова, укладываясь на свою койку. – Если бы не было противно говорить с этим идиотом, я бы открыла ему, кто я, и пусть бы женился на своей дуре. Но все это надоело. И не все ли мне равно, поженится или не поженится пара молодых идиотов!»
Она уже засыпала, как вдруг нежданно для себя почувствовала, что плачет.
Но не поняла, почему.
Она подмазала брови и губы, причесала волосы гладко, чтобы четко выделился профиль, и надела темно-красное платье, потому что для своей Каточки, для своей милой подружки, готова была на все.
Коренев эстет. Коренев и разговаривать не станет с вульгарно причесанной и пошло одетой женщиной.
А нужно его заставить не только разговаривать, но внимательно вслушаться в ее советы и доводы. Вслушаться и послушаться.
Она волновалась. Смотрела в зеркало, репетировала наиболее ответственные фразы.
– Вы должны это сделать! – говорила она сама себе в зеркало и властно сдвигала подмазанные брови. – Вы должны сделать Каточку своей женой. Любовь одной рукой дает нам права, а другой накладывает на нас обязанности… – Нет, положительно, лицо должно быть при этом бледнее!
Она долго и тщательно втирала пудру, подправляла кисточкой брови и снова репетировала:
– Любовь одной рукой дает права, а другой… – Теперь лучше.
Как это все трудно! Но, милая Каточка, ты можешь быть спокойна. Ты доверила свою судьбу другу умному и опытному.
Наконец!
Коренев пришел очень оживленный и немножко удивленный.
– Вы меня очень обрадовали, милая Лидочка, вашей запиской, но очень удивили обещанием какого-то серьезного разговора. В чем же дело?
Она повернулась в профиль, властно сдвинула брови и сказала твердо:
– Владимир Михайлович! Любовь одной рукой дает вам права, а другой накладывает…
– Как? – удивился Коренев. – Другой рукой накладывает…
– Не перебивайте меня! – вспыхнула Лидочка. – Другой рукой накладывает обязанности.
Коренев подумал, потом взял собеседницу за обе руки и поцеловал сначала одну, потом другую:
– Я всегда знал, что вы хорошая и серьезная женщина. Только почему вы говорите со мной, точно миссионер с эфиопом? В чем я провинился?
Лидочка растерялась:
– Нет, Вовочка, вы не провинились; только вы очень легкомысленный человек, и я боюсь за судьбу моего друга.
Лицо Коренева сделалось серьезным.
– В чем дело, Лидочка, говорите прямо. Речь идет, очевидно, о Каточке?
– Да, вы угадали. Я лучший друг Каточки. Я дала ей слово, что никому ничего не скажу. И я сдержу клятву. Вы знаете, что Каточка уехала к тетке в Киев?
– В Киев? Когда? Зачем?
– Вчера. Уехала от вас. И я поклялась, что не открою вам место ее пребывания, и я не открою.
– Да ведь вы же сказали, что она в Киеве.
– Разве? Ну это я так, вскользь.