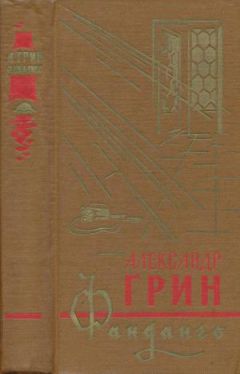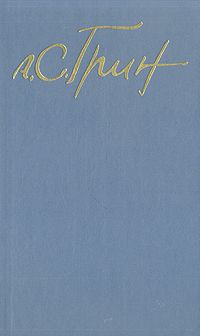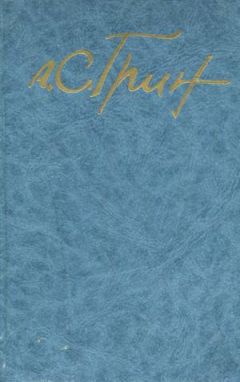Все это он делает молча, быть может, сердится за ее холодность. Не разбуди он ее, пожалуй, можно было бы отнестись снисходительнее к его нежности, но почему надо будить? Как будто нельзя встать и одеться без нее, напиться чаю и идти там по разным своим скучным делам. Утром так сладко спится. Хочется бесконечно блаженно дремать, не думая о разных надоедливых и тошных обязанностях домашней жизни.
– Ленуся, спишь?.. – осторожно спросил Варламов, подойдя к ней. – Моя маленькая ленивица!..
Он взял ее голую, теплую руку и сочно поцеловал в кисть. Жена нравилась ему всегда, и он не без удовольствия думал о возможной зависти знакомых. Одетая и причесанная, она казалась слегка чужой, особенно при посторонних, но нагота ее была доступна только ему, и тогда сознание, что эта женщина – его жена, собственность, было полнее и спокойнее.
– Я бы еще спала! – помолчав, зевнула Елена. – И даже сон видела… Сон… такой… ну, как тебе сказать? Будто я в цирке…
– Вот как? – почему-то удивился Варламов, думая о близкой плате поденщикам, работавшим на огороде. – В цирке… Ну… и?..
– Вот я забыла только, – озабоченно и серьезно произнесла Елена, – кем я была?.. Не то наездницей, не то из публики… просто… Я на лошади скакала, – засмеялась она. – Так быстро, быстро, все кругом, кругом, даже дух захватило. А вся публика кричит: «браво! браво!» И мне хочется скакать все быстрее, быстрее, а сердце так сладко замирает… Страшно и приятно…
– Значит, когда я тебя разбудил, то снял с лошади, – рассеянно сказал Варламов. – Иначе бы ты упала и разбилась… Леночка, я пойду в столовую. А ты?
– Я скоро, иди… – сказала Елена и, заметив, что муж хочет поцеловать ее в шею, быстро прибавила: – не тронь!.. Я сегодня стеклянная.
Варламов прошел в большую, светлую столовую, где на круглом белоснежном столе слабо шипел, попискивая и замирая, серебряный самовар. Аккуратно расставленная посуда, ножи и ложечки сияли холодной чистотой сытой жизни, а на краю стола, там, где всегда садился Варламов, лежала столичная газета.
Дверь на террасу была открыта, и старые пышные деревья сада ровной толпой уходили вдаль, сливая в зеленой глубине серые изгибы дорожек, запятнанных солнцем, черные стволы и яркие точки цветущих клумб. Щебетали птицы, со двора неслись ленивые выкрики. Над террасой стояло июльское солнце, золотило комнатный воздух и сотнями микроскопических солнц блестело в вымытой белизне посуды.
Варламов прошелся взад и вперед, потирая руки, свистнул, радуясь хорошему дню, сел на плетеный стул и развернул газету. Газет он вообще не любил и выписывал их единственно из убеждения, что следить за политикой необходимо для культурного человека. Ему хотелось есть и пить чай, но он терпеливо ждал прихода жены. Мысль о том, что можно налить чаю самому, даже не приходила ему в голову. Кроме того, он не любил пить или есть без жены и всегда с бессознательным чувством спокойного благополучия следил за неторопливыми движениями рук Елены, наливающей суп или чай. За столом он мог совсем не говорить и не испытывал от этого никакой неловкости. Если жена рассказывала что-нибудь, Варламов слушал и кивал головой; если молчала или читала, он, также молча, с удовольствием следил за ней глазами и добродушно улыбался, когда она, подымая голову, взглядывала на него.
– Здравствуй! – сказала Елена, входя и привычным движением нагибаясь для обычного утреннего поцелуя. – Ты поедешь сегодня?..
– Мы, собственно говоря, проспали, – ответил Варламов, нетерпеливо глотая слюну. – Теперь я опоздал на десятичасовой. Можешь представить, когда я вернусь? Вечером… А отчего у тебя круги под глазами. Смотри, какие синие…
– Круги? – равнодушно переспросила Елена, открывая сахарницу. – Вот уж, право, мне совершенно все равно…
– Ну, да… – улыбнулся Варламов. – Так я тебе и поверил. И личико бледное… Ты, я думаю, переспала… а?
Елена сердито звякнула ложкой.
– Я не переспала, а мало спала! – возразила она тем особенным, раздражающимся голосом, который почти всегда служил для Варламова признаком неизбежной сцены. – Я же малокровная, ты это прекрасно знаешь, а притворяешься. В прошлый раз доктор, кажется, при тебе это говорил, Гриша… И что мне нужно больше спать…
– Я хотел сказать… – запнулся Варламов, усиленно прихлебывая чай. – Впрочем, что же такое?.. Здесь деревня… гм… двенадцать часов… По-деревенски это…
Он примирительно кашлянул, но Елена молчала, притворяясь занятой намазыванием на хлеб икры. Варламов подождал немного и снова заговорил:
– Отчего ты сердишься? Я не люблю, Еленочка, когда ты начинаешь вот так сердиться без всякой причины. Ну, что такое, почему?
– Я не сержусь…
– Да как же нет, когда я прекрасно вижу, что ты не в духе и сердишься, – настаивал он, сам начиная ощущать тоскливое, жалобное раздражение. – Пожалуйста, не отпирайся!.. Сердишься. А почему, неизвестно…
Елена еще плотнее сжала губы.
– Да нет же, я совсем не сержусь…
Григорий Семеныч огорченно пожал плечами и развернул газету. Но через минуту помешал в стакане и, стараясь подавить мгновенную тонкую струйку обоюдного неудовольствия, сказал:
– У меня разные дела в городе. Прежде всего надо заказать стекол для парников… Потом с этими процентами… Да еще посмотреть Гущинский локомобиль, но я думаю, что он врёт… Наверное, с починкой, очень уж дешево… А тебе… нужно что-нибудь?..
– Мне? – холодно спросила она. – Что же мне может быть нужно? Нет.
– Это уж тебе знать, – кротко заметил Варламов. – Что ты… такая странная? Это невесело.
– Ну и уезжай себе, если скучно! – раздраженно подхватила Елена. – Разве я держу тебя? Скучно – ну и уходи… Чини свои локомобили и парники… Можешь также пойти в клуб и проиграть лишних двести рублей… мне… меня это не касается.
– Еленочка! – взмолился Григорий Семеныч, вставая и подходя к ней. – Детка моя! Ну, будет, брось… Я – дурак, довольно, Еленочка.
Он взял ее руку, потянул к себе и поцеловал маленькие, мягкие пальцы. Она не сопротивлялась, но в ее бледном, капризном лице по-прежнему лежала тень застывшего упрямства и скуки. Варламов опустил руку и тоскливо вздохнул.
– Ты, я вижу, ссориться хочешь, – сказал он печальным голосом, – но, ей-богу, я ни при чем… Ну, скажи, что я сделал, чем виноват?..
Елена сидела неподвижно, упорно рассматривая самоварный кран круглыми, остановившимися глазами, и вдруг, неожиданно для себя самой, жалобно и горько заплакала, беспомощно всхлипывая трясущимся, побледневшим ртом. Крупные, медленные слезы падали на скатерть, расплываясь мокрыми пятнами. И так было странно, тяжело видеть молодую, хорошенькую женщину плачущей в уютной, светлой комнате, полной веселого утреннего солнца и зеленых теней, что Варламов растерялся и беспомощно стоял на одном месте с глупым, покрасневшим лицом, не зная, что делать. Но в следующее мгновение он встряхнулся и бросился к маленькой, вздрагивающей от плача фигурке. Он обнял ее за плечи, целуя в голову и бормоча смешным, детским голосом ласкательные слова:
– Крошка моя… Ну, деточка, ну, милая, ангельчик мой!.. Ну, что же ты, зачем, Еленочка?..
Прошло несколько томительных секунд, и, вдруг, плач прекратился так же внезапно, как и начался. Елена перестала всхлипывать, выпрямилась, с мокрым, блестящим от слез лицом попыталась улыбнуться, бросила на Варламова просительный, ласковый взгляд и заговорила жалобным, но все еще сердитым, дрожащим голосом:
– Это нервы, Гриша… ты не обращай… ну, ей-богу же, просто нервы… потом, я плохо спала… голова болела, ну… Вот видишь, я перестала, вот…
Она рассмеялась сквозь слезы и принялась усиленно тереть кулачками вспухшие, красные глаза. Варламов сел, взволнованно откашлялся и шумно передохнул.
– Ты просто пугаешь меня, – сказал он, успокаиваясь и крупными глотками допивая остывший чай. – Так вот… ни с того, ни с сего… Сегодня… на прошлой неделе тоже что-то такое было… К доктору, что ли, мне съездить, а? Еленочка?
– Как хочешь, все равно, – протянула Елена упавшим голосом. – Но ведь я здорова, что же ему со мной делать?
– Доктора уж знают, что делать, – уверенно возразил Варламов. – Это мы не знаем, а они знают… Вот ты говоришь – нервы. Ну, значит, и будет лечить от нервности.
– Да-а… от нервности… – капризно подхватила Елена. – А вот если мне скучно, тогда как? А мне, Гриша, каждый день скучно, с самого утра… Ходишь, ходишь, слоняешься, жарко… Мухи в рот лезут.
– Вот это и показывает, что у тебя расстроены нервы, – с убеждением сказал Варламов, расхаживая по комнате. – Нервы – это… Здоровому человеку не скучно, и он, например, всегда интересуется жизнью… Или найдет себе какое-нибудь занятие…
Он чувствовал себя немного задетым и в словах жены нащупывал тайный, замаскированный укор себе, но так как он ее любил и был искренно огорчен ее заявлением, то и старался изо всех сил придумать что-нибудь, могущее, по его мнению, развлечь и развеселить Елену. Сам он никогда не скучал, вечно погруженный в хозяйство, и значение слова «скука» было известно ему так же, как зубная боль человеку с тридцатью двумя белыми, крепкими зубами.