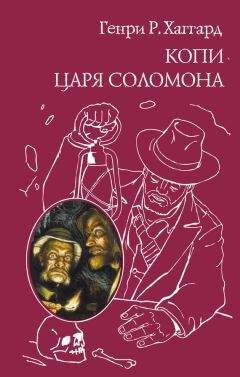Он смеялся и целовал ее плечи.
30 октября
В пятом часу он уснул первым. Разомкнул на ней руки и уснул, удивляясь и восхищаясь случившемуся.
Утром Вадим Петрович вспомнил позвонить приятелю, но дома у того никого не оказалось. Куда ему было деваться? Нора сказала:
— Оставайся. Я съезжу в театр — обещали выдать зарплату — и вернусь. А ты отдохни и расслабься.
Она поцеловала его так нежно, что из того же самого, что и вчера, слезного канальца, опять выползла сумасшедшая слезинка. Нора промокнула ее ладонью.
— Хочешь мне помочь, — сказала, — сходи за хлебом. — Ключи звякнули на столе.
Он еще раз позвонил приятелю, потом еще и еще и стал собираться за хлебом. Вчера было не до того, а сегодня он обратил внимание на аскетизм Нориной кухни. Пакетик майонеза. Баночка йогурта. «Суп Галины Бланко». Его жена, женщина других правил, просто умерла бы от отчаяния, не будь у нее в холодильнике суповой косточки и не стынь в нем вилок капусты. Почему-то возникло чувство раздражения на жену, вечно озабоченную проблемой обеда, чтоб обязательно первое и хоть пустяк, но и второе — сырничек там или колечко колбасы с горячим горошком… «Да не морочь ты себе голову, — сердился он. Сколько нам надо?» Жена подслеповато хлопала глазами, но лицо ее становилось твердым и упрямым.
Тут же, озирая скудную снедь Норы, Вадим Петрович впустил в себя мысль, возможность которой еще вчера была чудовищной. Он способен уйти от своей слепнущей жены, организовав ей, конечно, операцию и последующий уход, а потом остаться здесь, у Норы. Навсегда. На все годы. Почему-то мысль, что думает про это Нора, придет ли ей такое в голову, просто не думалась. Он смог бы. Он сможет.
С этим новым, неведомым и очень возбуждающим чувством он и стал собираться за хлебом. Хотя допрежь вышел на балкон посмотреть, что там случилось у бедной девочки. Именно такими словами теперь думалось. «Бедной» и «девочки».
Рваная рана ограды. Девочка ночью призналась, как затягивает ее проем. Что однажды она даже потрясла ногой над бездной, а потом вбежала в квартиру, будто за ней гнались. «Что-то надо делать, — удрученно думал Вадим Петрович, — так это нельзя оставлять».
Выйдя на улицу, он первым делом пошел на помойку. Вадим Петрович был старым и опытным помоечником. Именно там он находил нужные в хозяйстве предметы. Телевизор без начинки он отмыл и присобачил как ящик для обуви. Он очищал чужие поддоны и решетки газовых плит и заменял ими собственные, которые еще хуже. Хотя очисть и выскобли он свое, домашнее… Но сидел в нем, сидел этот помоечный пунктик, праправнук кладоискательства, и эту генетическую цепочку, как ту самую песню, «не задушишь и не убьешь».
На одной из ближайших дворовых свалок Вадим Петрович нашел кусок ребристого материала, он потопал на нем ногами — проверка на прочность, кусок не дрогнул, не согнулся, не треснул. Найти куски толстой проволоки было делом совсем простым. Конечно, он не знал, какие у Норы инструменты, но надеялся нарыть что-нибудь колюще-протыкающее, в крайнем случае сгодились бы и простые ножницы. Так что возвращался Вадим Петрович, правда, без хлеба, но достаточно обогащенный другим.
«Я сделаю все до ее прихода, а потом уже схожу за хлебом», — думал он, радуясь ее радости, когда она увидит залатанную дыру. Потом она, конечно, найдет честных рабочих и они заварят уже все как следует, но пока… Пока у нее не будет этой страшной возможности подойти к краю. У него закружилась голова от нежности к слабости девочки, у которой для пищи одна-единственная «Галина Бланка», будь проклята эта курица-женщина во веки веков. Его жена даже с катарактой куда более приспособлена к жизни, и это была очень вдохновляющая мысль, если рисовать ту перспективу, которую уже начинал мысленько видеть Вадим Петрович.
Ребристая штука по размеру плотно, даже с запасом закрывала проем. «Как тут была», — восхищенно подумал Вадим Петрович. У него даже выступил на ладонях пот, хотя руки у него всегда были сухие и жестковатые. Но в минуты крайнего волнения или потрясения он мокрел именно ладонями. У каждого своя причуда. У знакомого Вадима Петровича в таких же случаях текли неуемные и стыдные сопли, а человек он был сухой и опрятный. Другой его приятель бежал от волнения в уборную по-большому и пару раз даже не добегал, что совсем ужас. Но разве можно предугадать потрясение? Разве знал он еще утром, что ему придет в голову идея ремонта? А потом карта сама ляжет в руки.
Перед тем как выйти на балкон и укрепить там все, Вадим Петрович подумал, что надо бы позвонить приятелю, чтоб тот не думал плохого, но сейчас, когда в голове поселилась мысль о некоем другом будущем, почему-то не хотелось объяснять, где он… Слишком все серьезно, чтоб говорить об этом по телефону. Надо сесть за стол там, на диван… Чтоб видеть глаза.
Именно в этот момент его приятель стоял у своего телефона и не знал, что ему думать. Вчера вечером звонила жена Вадима, сказала, пусть возвращается домой и не морочит голову с федоровским институтом. Она сама нашла врача, в которого поверила сразу и решила, что он и только он будет ее оперировать. И деньги он возьмет смешные, потому что он дальний родственник их невестки (а они и не знали!), но из тех дальних, что лучше ближних.
Вадима еще не было дома, но и время было десять с минутами. Жена сказала, что позвонит завтра с утра. Вот и позвонила. Пришлось что-то наплести. Приятель испугался сказать женщине, что Вадим не пришел ночевать. Он думал: «Мало ли?» Человек ежился у телефона, и мысли плохие, очень плохие бились в его голове. «Какая же ты сволочь, — думал приятель о Вадиме Петровиче, — если у тебя все в порядке, а ты не объявляешься».
Пришла его жена. Старая и единственная.
— Не звонил? — спросила. И добавила: — Лично я кобелизм исключаю. У него для этого дела в кармане вошь на аркане. А за так теперь и прыщ не вскочит.
Нельзя думать плохие мысли. Никто не исчислял их энергетику, пусть даже малую. Никто не знает каналов устремления умственного человеческого зла. Никому не дано увидеть зависимость от гипотетического желания убить до обрушения земли. И очень может быть, что хватило малой толики ненависти, идущей от вполне порядочного человека, которого достала играющая гаммы соседская девочка, и он в сердцах подумал: «Чтоб тебя разнесло с твоим пианино». И разнесло. В другом месте.
На мысли своего приятеля, хорошего человека, «Какая же ты сволочь!» Вадим Петрович уже летел вниз с Нориного балкона. Проклятый ледок, что тормозил скорость машин на улицах, соединившись с истертостью подошв Вадима Петровича, сделал свое дело. Плиточка пола на балконе была выложена с мудрым расчетом стекания воды. Микроскопическая ледяная горка для хорошо поношенной обуви.
С этим уже ничего не поделаешь, но это был праздник души милиционера Виктора Ивановича Кравченко. Он даже не мог скрыть, хотя и сказать впрямую не мог тоже — понимал: радоваться чужой смерти нехорошо. Хотя на этот счет капитан-психолог говорил совсем другое. «Надо возбуждать в себе радость победы посредством мысли о смерти врага». Но «упатый с балкона человек» — так было написано в рапорте — врагом не был. Он был стар, и он был жертвой. А с жертвой как понятием Витьку было не все ясно. «Жертва — момент преступления. Но если ты мертвый — не значит, что ты невиноватый. Если, конечно, не дите или сосулька на голову».
Капитан-психолог — умный человек, но и он не может знать ответов на все вопросы жизни. Капитан длинноват от макушки и до пояса и коротковат в сторону земли. Виктору Ивановичу нравятся такие фигуры. Длинные ноги, которые теперь всюду показывают, вызывают в нем нехорошие чувства. Тянущиеся ноги, у которых нет конца и краю, и, карабкаясь по которым, уже и не помнишь, с чего это ты тут оказался. Получается, что тебя подчинила длина, и она унижает и оскорбляет тебя высотой по сравнению с тобой.
Низкорослые люди были милиционеру Виктору Кравченко понятней и ближе. Они над ним не высились. Они попадали с ним зрачок в зрачок.
1 ноября
К вопросу о зрачках.
В этих не было света. Совсем. «У нее же катаракта, — объясняла себе Нора. — Надо с ней поделикатней».
Но как? Как? Нора провалилась в вину, как в пропасть. С этим ничего нельзя было поделать. Вина и пропасть стали данностью ее жизни. Можно ли к тому же оставаться деликатным?
— Как это можно было самому починить? — спрашивал тот приятель Вадима Петровича, которому Нора в конце концов дозвонилась. Теперь он в присутствии мертвых зрачков жены покойного бросал ей как поддержку вопрос о несостоятельности ума Вадима Петровича, желающего самостоятельно заделать брешь в ее балконе. Ну зацепись, дура артистка, за помощь, скажи что-нибудь типа: «Я ему говорила», «Я понятия не имела, что он задумал», «Мне и в голову не могло взбрести»… Но все эти бездарные слова уже говорились милиции, хотя даже тогда она уже знала: она их произносит «из пропасти вины». Это сразу понял молодой мальчик, как его там? Виктор Кравченко. Он наклонился над ней, над ее «колодцем», куда она прибыла как бы навсегда, и смотрел на нее сверху черным, все понявшим лицом.