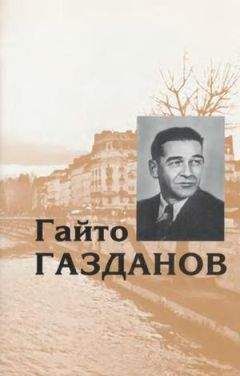- То, в чем мне до сих пор не удалось ее убедить, - сказал он, - это в необходимости забыть о своем прошлом. Тем более что, в конце концов, ты понимаешь, никаких преступлений она не совершала и ей не в чем себя упрекать, я знаю всю ее жизнь. Но она несколько раз говорила мне слова, в ответ на которые я только пожимал плечами: "Может быть, я не имела права связывать свою жизнь с твоей, и дай Бог, чтобы я в этом не ошиблась". Тебе не кажется, что это просто нелепо?
- Нет, - сказал я. - Я думаю, что, может быть, это не так просто и не так нелепо, как тебе кажется.
Значительно позже, когда я вспоминал о том периоде времени, началом которого можно было считать открытие кабаре Эвелины, я думал, что стремительное движение событий, которого потом мы все стали невольными участниками, казалось особенно неожиданным после того, как все предшествовавшее им развивалось с неизменной медлительностью. Она была во всем - спокойная жизнь Мервиля и Лу в Париже после ее исчезновения, возвращения и поездки в Америку и Мексику; медленно шли, один за другим, дни в Сицилии, где был Андрей, и его путешествие во Францию не нарушило ни его душевного спокойствия, обретенного после стольких лет судорожного ожидания и несбывшихся надежд, ни безмятежного существования, которое он вел теперь. Так же медленно писалась книга Артура, и, казалось, ушло в прошлое то время, когда он не знал, что будет с ним завтра. В жизни Эвелины после ее расставания с Котиком началось то постепенное ее перевоплощение, которому я был свидетелем, и не было больше ни вздорных проектов, ни увлечений, ни того, что было раньше, - бурных перемен, отъездов и возвращений. Она реже стала бывать в своем кабаре и много времени проводила дома, погруженная в размышления о том, над чем она прежде никогда не задумывалась. И только в моей жизни все, казалось, продолжало быть как раньше, без изменения ее замедленного, как всегда, ритма, - то же одиночество, та же неподвижность, о которой столько раз говорил мне Мервиль.
Эвелина приходила ко мне в разные часы-то утром, то днем, то вечером, потом исчезала на некоторое время, но неизменно возвращалась и спрашивала:
- Ты меня не забыл?
- Ты же знаешь, что это невозможно.
- Мне недавно попалась одна книга, - сказала она как-то. - Я открыла ее, чтобы погадать, то есть прочесть первую же фразу, которую ты увидишь, первые ее слова. Ты знаешь, что это было?
- Что? - спросил я.
- "Медлительная сладость ожидания", - сказала она. - Я никогда раньше не знала этого ощущения. И я подумала об одной вещи, которая тебе, может быть, покажется странной. Когда я прихожу к тебе и мы с тобой разговариваем, у меня такое впечатление, что рядом с тобой появляется зеркало, в котором я вижу себя. Не зеркало, конечно, как стекло, а что-то другое, и в нем мое отражение.
- И ты возникаешь в нем такой, какой ты никогда не видела себя до сих пор?
- Как хорошо, что ты перестал быть неправдоподобным, - сказала она. Мне теперь так легко с тобой - после того, как ты отказался от твоего постоянного грима, в который я никогда не верила.
- Всему свое время, Эвелина, - сказал я. - "Время бросать камни и время собирать камни". Ты это помнишь? "Аз, Екклезиаст, был царем над Израилем, во Иерусалиме". Ты говорила о моем гриме. Может быть, это объясняется тем, что я перегружен цитатами и воспоминаниями о чужих чувствах - и они так часто мешали мне жить моей собственной жизнью.
- Это, в конце концов, не так плохо, - сказала она, - ты сберег твою душевную силу. И потом, ты все-таки жил воображаемой жизнью в твоих книгах, это то, чего нет у большинства людей.
- У меня свой взгляд на это, - сказал я. - В том, что это действительно стоило делать, я никогда не был уверен. А вот то, что потеряно и о чем следует пожалеть, это стихи Жоржа.
- Какая страшная смерть! - сказала она. - Что теперь от всего этого осталось? От этого поэтического вдохновения, от усилий, которые должен был делать Жорж, чтобы жить, преодолевая то презрение к нему, которым он всегда был окружен. Что? Могила на кладбище Периге?
- До которой издалека доходят лучи солнца Сицилии, - сказал я. - В этом смысле гибель Жоржа не была напрасной.
- Я бы не хотела купить свое благополучие такой ценой.
- Неужели ты говоришь об Андрее? Она пожала плечами.
- Тут ты ошибаешься, - сказал я. - Андрей был глубоко несчастен, и у него были все основания не любить Жоржа. Но он никогда не сделал бы ничего, чтобы повредить своему брату. Он даже не был его врагом. А то, что из-за смерчи Жоржа его жизнь так изменилась, это, в конце концов, случайность. Но, конечно, при желании в этом можно усмотреть, если хочешь, торжество жестокой справедливости.
- Мне кажется, что Андрею больше подходит роль жертвы.
- Я тоже был склонен так думать, - сказал я.
Но и это не так. Сейчас он другой человек, его нельзя узнать. И вот ответь мне на вопрос: какой Андрей подлинный? Тот, каким он был раньше, или тот, каким он стал теперь?
- Я об этом не думала.
- Напрасно, потому что именно это самое главное.
- Ты понимаешь, я так привыкла к тому, что его всегда надо жалеть, что у меня сейчас, когда я об этом думаю, какое-то странное чувство, которое мне трудно объяснить.
- Мне кажется, я понимаю. У тебя такое впечатление, что у тебя отняли это сожаление. Ты сжилась с этим представлением - Андрей бедный, несчастный, неуверенный в себе. Теперь это привычное представление о нем, - ты его теряешь.
- Может быть, - сказала она рассеянно, думая, как мне показалось, о другом. И потом без перехода, другим тоном она сказала:
- Ты знаешь, я так рада тому, что ты изменил твое отношение ко мне.
- Я его не изменил, оно всегда было таким же, как сейчас. Это ты изменилась, Эвелина.
- А ты? - сказала она.
- Я все такой же, мне кажется.
- Нет, - сказала она с твердостью и уверенностью, которая меня удивила. - Нет, милый мой. Я тебе уже сказала, что теперь ты разгримировался.
* * *
"Мне, вероятно, недолго осталось жить. Каждое утро, когда я с усилием поднимаюсь с постели, я думаю, что, может быть, именно этот день будет последним в моей жизни. Доктор мне объяснил, как функционирует мое сердце, и прибавил, что непосредственной опасности нет. Он не мог этого не сказать, это был его профессиональный долг, - но вряд ли он сам был уверен, что ему удалось меня в этом убедить. Никаких иллюзий у меня нет, и он, вероятно, это знает.
Но когда я спрашиваю себя, что заставило меня писать эту книгу воспоминаний, я неизменно нахожу один и тот же ответ. Моя жизнь ничем не замечательна. Я ничем не отличаюсь от огромной массы людей, которые живут так, как это им диктуют внешние обстоятельства, среда, которой они окружены или из которой они вышли, воспитание, которое они получили, бытовые условия, та или иная система морали, которая им кажется правильной. И те, кто живет, нарушая законы общепринятой этики, делают это далеко не всегда потому, что они хуже других, а нередко оттого, что их жизнь сложилась иначе, чем у большинства их современников. И можно себе представить, что при некотором изменении в начале существования биография уголовного преступника могла бы стать историей жизни политического деятеля, отца семейства и уважаемого гражданина своей страны. Но я отвлекаюсь от главной темы. Я хочу вернуться к ответу на вопрос о том, что побудило меня писать эту книгу. Быть может, некоторым читателям этот ответ покажется неожиданным, но для меня он ясен.
Это, в сущности, - своеобразная жажда бессмертия. Казалось бы, откуда? Почему? Но жажда бессмертия так же необъяснима, как необъяснима жизнь и необъяснима смерть. Через некоторое время я перестану существовать, и не все ли мне равно, казалось бы, что произойдет через пятьдесят или сто лет после этого? Ни о ком из моих сверстников никто не будет помнить, а обо мне останется книга, которую я написал. Она будет своего рода открытой могилой, напоминанием о том, что я существовал. Вопрос - нужно ли это или нет, не имеет, я думаю, значения. Но я умру, зная, что мне в какой-то степени удалось победить смерть. Моя книга - это борьба против власти забвения, на которое я обречен. И если через много лет после того, как меня не станет, на земле найдется хоть один человек, который прочтет эти строки, то это будет значить, что я недаром прожил свою трудную и печальную жизнь".
Так Артур кончил свою книгу воспоминаний Ланглуа. Когда он прочел мне эти строки, я сказал:
- Теперь ему действительно остается только умереть.
- Я надеюсь, ты это говоришь риторически?
- Конечно. Потому что я готов пожелать ему долгой жизни, и, в конце концов, он заслужил нашу признательность, дав тебе этот заказ.
- Представь себе, последние главы я писал почти с увлечением.
- У тебя всегда было литературное призвание.
- Ты прекрасно знаешь, что это не так.
- Нет, нет, было, только не вполне понятое. Если бы его у тебя не было, ты не мог бы написать эту книгу.
- Не забывай, что ты мне очень помог.