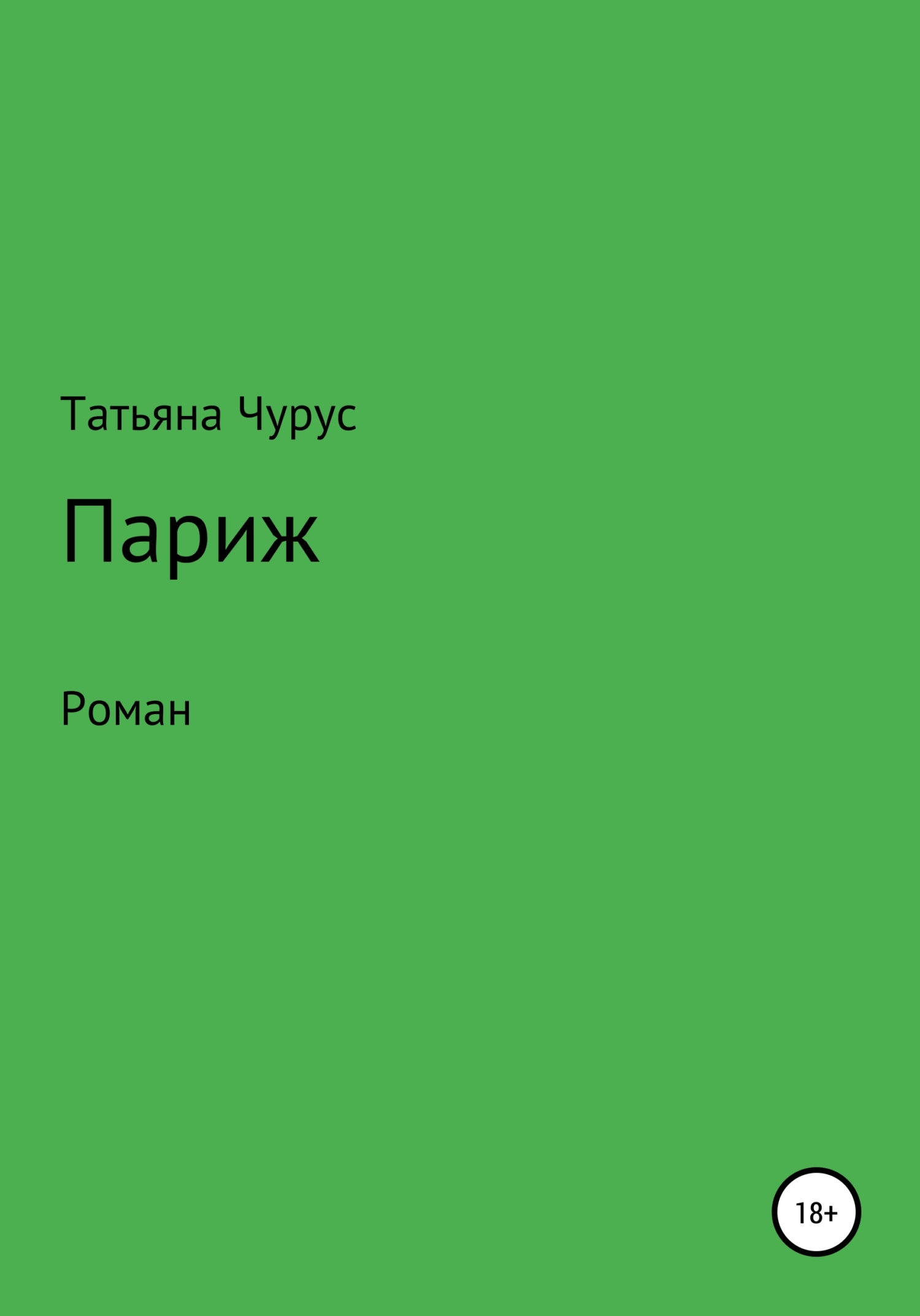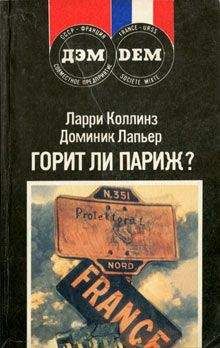Валентин, кто еще! – стучит в дверь. Мама срывается с места, подбегает к двери. «Прощелыга чертов!» – звучит в моей голове мамин голос. Видел бы ее папа… Бедная мама, она отчаянно пытается прогнать Валентина. Тот не сдается. «Ну чего уши развесила?» – кричит мама. Но кричит виноватым голосом, то и дело утирая пот со лба: никогда не видела, чтобы со лба столько пота стекало, вот будто это не лоб, а Ниагарский водопад. Жалко мне маму. Я подхожу к двери и громко говорю: «Я знаю, что вы шпион…». Не успеваю договорить – кто-то (ясное дело, кто – Валентин), срывается с места и мчится по коридору, яростно стуча подошвами. «Стукач!» – распахиваю я дверь и кричу в спину Валентину. Бедолага разворачивается всем корпусом, щелкает пятками клетчатых тапочек. Олимпийский мишка улыбается во все Валентиново пузо, лакированная лысина блестит, усы словно бы кто прилепил к верхней губе: дерни за кончик – и оторвешь. «Я… я… советский офрицер!» – брызжет слюной Валентин. – Оф… офицер! Я буду жаловаться!» Я захлопываю дверь. Мама, красная от напряжения, сползает по стенке, держась за живот. «Жалуйся, – хохочет мама, – офрицер! Фриц ты несчастный, вот ты кто!» «Я ж говорю: шпион!» – смеюсь я. Я люблю смеяться с мамой, люблю, когда мы заодно. Редко это бывает…
Утром мы идем с мамой в столовую по большому стеклянному переходу (в этом переходе зимний сад: здесь меня целовал Сережка Морозов, вон у того кустика!), мы идем по переходу, а за нами крадется кто-то… «Анночка, на несколько слов», – и Валентин отводит маму в сторонку. Лакированная лысина его взволнованно блестит, усы топорщатся, а олимпийский мишка как ни в чем не бывало улыбается во все пузо. Мама недовольно морщит нос, так что очки прыгают. Глянув на меня, переминающуюся с ноги на ногу, мама машет рукой: иди, мол, в столовую, нечего тут торчать. Но я пожимаю плечами, делая вид, что не поняла маминых намеков: жуть как интересно узнать, чем у них дело кончится. Отдыхающие торопятся на завтрак, искоса поглядывая на эту «парочку», которая мешает им поскорее добраться до заветной порции пудинга или творожной запеканки. «Ну я же серьезный человек, – поет Валентин, – ну как же вы?..» Мама что-то бурчит себе под нос – ничего не слышно! Я отчаянно нюхаю розу: колючая, собака! «Идем, доча!» – бедняжка хватает меня за руку. Она никогда не называет меня так: «доча». Горячая волна нежности разливается по моему телу: мамочка… Я зыркаю на Валентина. «Если вы еще раз пристанете к моей маме, – выстреливаю я, – мне придется (хм, а что придется-то?)… мне придется… сообщить в органы!» «Я сам органы», – грассирует он, однако от мамы отходит. Она надувает губки, словно маленькая девочка, которую лишили сладкого, потом встряхивает головой, поправляет очки, и мы бодрым шагом идем по зимнему саду в столовую.
«Отцу про этого, – мама краснеет, – фрица ничего не рассказывай, поняла?» Я киваю. Мы собираем вещи. Пришло время уезжать.
В Новосибирске гололед и… конец четверти. Я приехала с курорта, не училась больше месяца, вся в обновках. «Подумаешь, Трускавец, – фыркает Сусекина, глядя на меня, порозовевшую и похорошевшую от частого приема «Нафтуси», душа Шарко́ и грязевых процедур, – мы с мамой летом в Югославию поедем». Она обдает меня ароматом каких-то нездешних духо́в и проходит мимо. Югославия… Не Париж, конечно, но все же… Я краснею и сажусь за свою камчатскую парту. «Чуда чокнутая, – слышу, как шепчутся пацаны – Герис с Заходером, – она в психушке лежала». Шепчутся и пялятся на меня круглыми от страха глазами. Аленка Буянова и та отвернулась (ладно-ладно, отличница несчастная): это Сусекина ее науськивает, ясное дело. «Шива (Борька сидит на первом ряду, прямо под носом у Степаниды Мишки), сядь-ка к Чудиновой, – Степанида Мишка машет рукой, показывая Борьке, куда ему сесть, – а Захарчук сядет на твое место: болтает много». Заходер нехотя запихивает свои вещички в видавший виды портфель. «А чё я-то?» – пищит Борька. «Ничё, – парирует Степанида Мишка, размазывая помаду по подбородку, – давай-давай». «Не буду я», – бурчит Шива. «Боря, мы ждем», – Степанида Мишка выдерживает театральную паузу. Борька, насупившись, словно воробышек, опускает голову и скрещивает руки на груди. «Шива, ты урок сорвать хочешь? – стальным острым голосом отрезает Степанида Мишка и, словно полководец, окидывает взором маленького Борьку. – Конец четверти на носу, а ты тут, понимаешь…» «Степанида Михайловна, ну пожалуйста…» – клянчит Борька. «Да он Чуду боится, – вступается за Шиву Герис, – она из психушки сбежала». «Сбежала, сбежала», – лавиной проносится по рядам. «А ну прекратить! – рявкает Степанида Мишка и топает ногой. – И чтобы я больше этого не слышала! Таня Чудинова ездила в санаторий. Танин папа работает в кэ…», – Мишка прикусывает язык. Тишина. Такая, будто телевизор продолжает показывать, но вот звук пропал. Я выпрямляю спину и с презрением смотрю на одноклассников… простые смертные… Кэгеба – это сила. Секунд десять – они тянутся целый час – не спадает это оцепенение, потом кто-то выдыхает, кто-то чихает, кто-то хлюпает носом. Борька Шива на цыпочках крадется к моей камчатской парте, смотрит на меня затравленным взглядом. Я королевским жестом убираю свой портфель с соседнего стула: милости прошу. «А ты правда была в кэ… – заикается Борька, – ой, то есть в санатории?» Я набираю в легкие воздуха, я хочу разнести этого недостойного своей фамилии Борьку в пух и прах, но вид его так жалок, что я просто мотаю головой: правда, мол. Борька что-то лепечет, по-хозяйски раскладывая на парте свои книжки-тетрадки, Степанида Мишка скребет по доске мелом, раскрасневшаяся Аленка Буянова оборачивается и сверлит меня своими глазками-буравчиками («Ну да, Таня!») – косички топорщатся, Анька Шпакова тихонько крестится, Лариска Кащенко достала из парты зеркальце и помаду и мажет губы, Кузя ковыряет в носу…
Алеша, где ты?..
Звенит звонок. «Минуточку внимания! – спохватывается Степанида Мишка. Ее голос тонет в радостном гуле: летают портфели, хлопают крышки парты, в распахнутое окно врывается колючий мартовский воздух. – А ну прекратить! – визжит Степанида Мишка, яростно размазывая помаду по подбородку. – Сели все на места!» В класс входит Табуретка. «Здравствуйте! – Беснующиеся, завидев ее квадратную жопень и раскаленные стеклышки очков, подскакивают и встают по стойке смирно. – Садитесь. – Табуретка покровительственно машет рукой. Все, в том числе и Степанида Мишка, садятся, выпучив глаза и разиня рот. – Ребята, – сладко поет Табуретка, так сладко, что у меня холодеет спина, – ну чего вы такие кислые? Ну? – она раздвигает губы, изображая улыбку. Я замечаю щель между ее верхними передними зубами (папа сказал бы, что Табуретка «каразубая»). – Я вот чего пришла. А не поставить ли