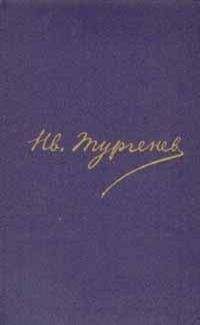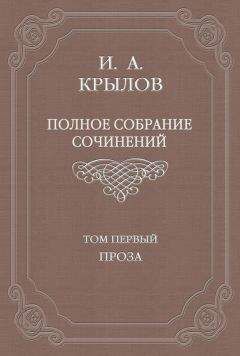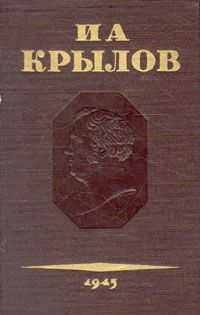Но если в иных отраслях искусства и совершился такой благодетельный перелом, зато в других мы должны еще пока питаться надеждами и беспрестанно встречаться с произведениями, из которых лучшие тем только и хороши, что они не худы, и бороться с крикливыми мнениями людей, которых скорее и основательнее всякой критики убедило бы появление истинного таланта… Лучшая рецензия на романы г-на Булгарина — «Мертвые души»; всякая рецензия еще напоминает разбираемое сочинение, признает по крайней мере его существование, а «Мертвые души» заставили преспокойно забыть г-д Выжигиных и компанию*). Нравственно-сатирические и исторические романы старого покроя убиты; но исторические драмы существуют… И потому-то мы должны заняться «Смертью Ляпунова» г-на Гедеонова.
Исторический роман, историческая драма… Если каждого из нас так сильно занимает верное изображение развития самого обыкновенного человека[33], то какое впечатление должно производить на нас воспроизведение развития нашего родного народа, его физиономии, его сердечного, его духовного быта, его судеб, его великих дел? Вспомните драматизированные хроники Шекспира, «Гёца фон Берлихинген», романы Вальтера Скотта, наконец даже хроники Витте́ и Мериме.* Кто решается — не смиренно и терпеливо пересказать судьбы своего народа, следуя современным бытописаниям, но в живых образах и лицах воссоздать своих предков, избегнуть холода аллегорий и не впасть в сухой реализм хроники, действительно представить некогда действительную жизнь, — тому мало даже большого таланта: если в сердце его не кипит русская кровь, если народ ему не близок и не понятен прямо, непосредственно, без всяких рассуждений, пусть он лучше не касается святыни старины… Но великие дела тем и отличаются от малых, что они кажутся легкими для всех, хотя действительно легки для весьма немногих; оттого-то такое множество людей у нас и берется за исторические драмы.
Оно понятно и с другой стороны. Кому не дорог успех, кому не хочется рукоплесканий? В сердце русского живет такая горячая любовь к родине, что одно ее священное имя, произнесенное перед публикой, вызывает клики одобрения и участия. Но, кажется, пора бы заменить патриотические возгласы действительным драматическим интересом и не присвоивать своему таланту выражения чувств, не им возбужденных.
Ляпунов уже не раз удостоился двусмысленной чести быть героем русской исторической драмы.* В изображении его характера* до сих пор следовали Карамзину. Со всем уважением к знаменитому историографу мы осмеливаемся думать, что он, — так же, как из лица Грозного, — сделал из Ляпунова лицо фантастическое. Ляпунов был человек замечательный, честолюбивый и страстный, буйный и непокорный; злые и добрые порывы с одинаковой силой потрясали его душу; он знался с разбойниками, убивал и грабил — и шел на спасение Москвы, сам погиб за нее. Такие люди появляются в смутные, тяжелые времена народных бедствий как бы на вторых планах картины; как люди второстепенные, они исчезают перед честной доблестью, ясным и светлым разумом истинных вождей; но их двойственная, страстная природа привлекает драматических писателей… Шекспир любил изображать такие лица. Оттого выбор Ляпунова, как главного действующего лица драмы, нам всегда казался удачным; мы не раз мечтали о той яркой, подвижной картине, которую писатель с дарованьем сумел бы провести перед нашими глазами… Вместо мучительной однообразности или натянутой, еще более мучительной пестроты условных фраз, условных возгласов, условных эффектов он бы дал нам, наконец, услышать голос истины, еще более трогательной и потрясающей в прошедшем, чем в настоящем…
Обратимся же к драме г. Гедеонова. Г-н С. А. Гедеонов — человек образованный и начитанный, в этом нет сомнения; начитанность его высказывается в множестве заимствований, которыми он обогатил свое произведение. Слог его гладкий и чистый — слог образованного русского человека. Как человек образованный и со вскусом, он не впал ни в одну грубую и явную ошибку; план «Смерти Ляпунова» именно такой, какого и ожидать следовало; словом, как произведение эклектическое, драма г. Гедеонова показывает, до какой степени, при образованности и начитанности, можно обходиться без таланта.
Истинный талант создает школу; но до появления этого таланта обыкновенно в отрасли словесности, ожидающей подобного возобновления, образуется целый ложный род, который в ней существует, несмотря на свою внутреннюю лживость. В нашей литературе упрочилась именно такого рода драма благодаря стараниям покойного Полевого, гг. Кукольника и Ободовского. Г-н Гедеонов не вышел из колеи, проложенной его предшественниками; но он отличается от них совершенным отсутствием самобытности. В «Смерти Ляпунова» легко отыскать и указать следы влияния Шекспира, Загоскина, Шиллера, новейших французских мелодрам, Гёте, Гоголя, Кукольника и т. д. Эта мозаичность составляет в одно и то же время и недостаток и достоинство драмы г. Гедеонова: недостаток потому, что только живое нас занимает, а все механически составленное — мертво; достоинство — потому, что бесцветное подражание всё же лучше плохой самостоятельности, уже потому лучше, что не может получить никакого влияния.
Приступим к изложению содержания «Смерти Ляпунова».
Первое действие начинается в избе Заруцкого. Казаки пьют.
— Как! — говорит первый атаман, — чтоб честные казаки поддались московскому мужичью? да не будь я Остап Кукубенко…
Заварзин. Ну, ну, успокойся, чёртов сын!.. Да мне-то оттого не легче: погиб кривой Наливайко!
1-й атаман. Кривой Наливайко был хороший казак.
Заварзин. А как же! ходил со мною в Туречину, побывал и в Натолии, съест поляка, закусит татарином; под Дубной ему стрелою глаз выкололо; был славный казак!
Заварзин (пьет). Погибли еще Тарасенко да Вертихвист…
«Тарас Бульба» замечательное произведение, не правда ли. читатель?..* Казаки, разъяренные самоуправством Ляпунова, клянутся погубить его. Заруцкий сообщает свои планы своему наперснику. Является гонец с известием о прибытии Марины. Вся эта сцена писана слогом «маленько мужицким», развалистым, как оно и прилично тогдашним казакам; но в следующей сцене Марина говорит уже вот как: «Москва! Москва! как грустно и как весело смотреть на тебя!» А спутник ее, влюбленный в нее юноша, Симеон Волынский, нечто среднее между Максом из «Валленштейна» и Францем из «Гёца фон Берлихинген»*, отвечает ей: «Разве час твоего свидания с Москвою не страшный час нашей вечной разлуки?.. О! кто отдаст мне Коломну, кто отдаст мне эти двенадцать светлых дней моей жизни?» Марина требует от него, чтобы он примирил ее с Ляпуновым. Симеон уверяет ее, что это было бы для него «не земное, а райское счастье!» Марина называет его ребенком, а он восклицает: «О, зачем он (Ляпунов) тебя не видит, зачем он тебя не слышит, очаровательница! Какая железная кора не падет перед могучим словом этих алых уст? какой лед не растает от лучезарных очей твоих? Марина! мой разум немеет перед твоей волею!..»
Марина. Симеон, я буду любить тебя!
Симеон. Ты! ты будишь царицею, ты забудешь меня!
Марина. Ребенок… Иди, Симеон.
Симеон (уходит и возвращается), Марина! ты не любишь Заруцкого?
Марина. Я презираю его!
Симеон. О! я люблю тебя. (Убегает в боковую дверь.)
Марина (одна). Тебя любить! нет, Симеон! Марина тебя не любит и не будет любить! Бедный, жалкий человек!.. Цель твоей жизни, твоих действий — поцелуи женщины: правда, эта женщина — царица, а эта царица — я!
Нам особенно нравится то обстоятельство, что влюбленного юношу называют Симеоном. Это славянское, в обыкновенной речи неупотребительное, имя так и дает вам чувствовать, что вы находитесь в области условного и что до истины тут дела нет никакого. Приходит Олесницкий, посол Гонсевского, и Заруцкий. Олесницкий говорит свысока, Марина тоже; по уходе посла Заруцкий снимает личину и «отделывает» Марину.
Разговор происходит между ними следующий:
Марина. Не знаю, что значит: избавиться? (От Ляпунова.)
Заруцкий. Известное дело (делает знак убийства). Какая ты стала непонятливая!.. Ну, а как Ляпунов нам петлю на шею наденет?
Марина (смеясь и схватившись обеими руками за шею). Моя шея не сделана для петли палача!
Заруцкий. Знаем! она сделана для жидовских объятий.
Марина. Заруцкий!
Заруцкий (берет ее за руку). Ну, ну, ну, успокойся! безумная!