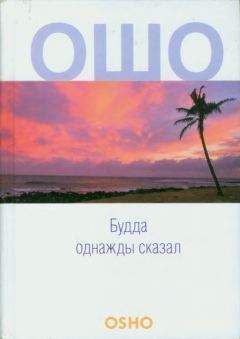Кофей 2 р.
Прочее 11 р.
Итого 27 р. 75 к.
С почтением Антон и Марья Чеховы, домовладельцы».
Букишоном он стал называть меня потому, что в какой-то газете он увидал портрет какого-то маркиза, который был на меня похож.
Двадцатого апреля я получил от него укоризненное письмо:
«Новый рассказ
А. П. Чехова
Северные цветы
Альманах к-ва „Скорпион“. Ц. 1 р. 50 к.» Во-первых, я никогда не писал рассказа «Северные цветы», а во-вторых, зачем Вы ввели меня в эту компанию, милый Иван Алексеевич? Зачем?
Ваш А. Чехов. 20 апр.
В письме от 22 апреля он пишет Книппер уже о венчании, а в конце: «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Художественного театра 4-актный водевиль или комедию. И я напишу, если ничто не помешает, только отдам не раньше конца 1903 года» («Вишневый сад» — никогда он не думал о нем, как о драме…).
В письме к Книппер от 26 апреля 1901 года он пишет:
«Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, — то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из церкви укатил бы не домой, а прямо в Звенигород. Или повенчаться в Звенигороде…»
Как я его понимаю!
В Москве обратился к доктору Щуровскому. Его диагноз:
«Притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой. Немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губ., если же кумыс не будет переносить, то — в Швейцарию».
Двадцать пятого мая Антон Павлович послал извещение матери: «Милая мама, благословите, женюсь. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше. Антон».
Венчание произошло тайно от всех; кто были свидетелями, я не знаю.
Тридцатого июня я получил письмо от Антона Павловича, в котором он просит написать поздравление с законным браком уже в Ялту. «Вы уезжаете в Одессу? Не забывайте, что от Одессы до Ялты рукой подать, приехать нетрудно». В этом письме он подписался: «Аутский мещанин».
В Аксенове чувствовал он себя сносно, прибавил двенадцать фунтов, а в Ялте начал кашлять. Как сократил жизнь себе Антон Павлович, живя у моря!.. Если проследить по письмам его здоровье, то увидишь, что ему почти всегда было в Ялте хуже, чем где-либо. И ни один врач не посылал его в снег, в Швейцарию! Только Щуровский условно, если «не поможет кумыс»…
Получил я письмо от Антона Павловича в Одессе, в августе: ответы на мои вопросы. Узнал, что Книппер уезжает в Москву 20 августа, Марья Павловна — первого сентября.
Сообщает, что много пишет, по целым дням, и просит, чтобы художник Нилус отложил писать с него портрет до будущего года.
Далее шутит: «…буду ожидать вас с нетерпением. Буду с первого сентября день и ночь сидеть на пристани и ожидать парохода с Вами.
Очень возможно, что в Ялту приедет Горький.
…Не обманите же, приезжайте. Поживем в Ялте, а потом вместе в Москву поедем, буде пожелаете».
Я уже 5 сентября обедал у Чехова с каким-то прокурором. Антона Павловича нашел в плохом состоянии.
Девятого сентября Антон Павлович пишет жене: «Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин».
И опять начались бесконечные разговоры. Когда я приехал, он чувствовал себя весьма нехорошо.
Много рассказывал Антон Павлович о кумысе, где он поправился, а вернувшись в Ялту, «опять захирел, стал кашлять и в июле даже поплевывал кровью», восторгался степью, лошадьми, туземцами; только уж очень была серая публика и никаких удобств! Вкус кумыса похож на; квас и не противный, но, конечно, надоедает.
Через несколько дней ему стало лучше. Он в сентябре решил ехать в Москву, вероятно, уже скучал без жены.
Читал он в эти дни свои старые рассказы, некоторые почти писал заново, так, по его мнению, они были слабы.
До моего приезда в Ялте жили Дорошевич, умом которого восхищался Чехов, и артист Орленев, которого он считал талантливым, но беспутным; последнего я застал.
Жаловался на газету «Курьер»: «Чуть не в каждом номере пишет про меня всякое вранье и пошлости…»
Ему хотелось поехать в Москву до репетиций «Трех сестер», чтобы сделать некоторые указания и, может быть, изменения.
Как я теперь узнал из письма к Книппер, Чехов обо мне ей на другой день моего приезда писал: «Бунин жизнерадостен…» На меня почти всегда Антон Павлович действовал возбуждающе.
Собрались тогда мы было поехать в Гурзуф, да пришлось отменить: Чехов должен был ехать к Льву Николаевичу Толстому.
Конечно, по его возвращении я уже был у него в Аутке и с жадностью слушал рассказы о Толстом. Как всегда, он восхищался ясностью его головы и тут сказал: «Знаете, что меня особенно восхищает в нем, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня… Почему? Потому что он смотрит на нас, как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семеновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо он пишет не по-толстовски…»
А мне Илья Львович Толстой говорил в 1912 году, что у них в доме на писателей смотрели «вот как», и он нагибался и держал руку на высоте низа дивана, и когда он мне это рассказывал, я вспомнил эти слова Чехова.
Мне все же кажется, что, несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности.
Пятнадцатого сентября он уехал в Москву. Чеховы поселились на Спиридоновке в доме Бойцова, во флигеле. Я у них бывал.
В Москве он прожил с 17 сентября до 26 октября.
Он бывал на репетициях своей пьесы «Три сестры». Остался доволен.
В этот сезон шли разговоры о постройке нового театра, в Каретном ряду Художественному театру было уже неудобно и тесно. Но еще ни к чему определенному не пришли.
В октябре здоровье его стало хуже. Почему его не отправили в швейцарскую санаторию?
Вернувшись в Ялту, он жил с матерью, по целым дням питал корректуру.
Пятого декабря Чехов пишет А. Н. Веселовскому: «Имею честь предложить на имеющиеся вакансии почетных академиков следующих кандидатов:
Михайловский Николай Константинович,
Мережковский Дмитрий Сергеевич,
Спасович Владимир Данилович,
Вейнберг Петр Исаевич».
В это же время Горький получил разрешение жить в Крыму. Чехов жене сообщает: «Дача у него на хорошем месте, но в доме суета сует, дети, старухи, обстановка не писательская».
Пишет, что читал конец повести Горького «Трое»: «Что-то удивительно дикое. Если бы написал это не Горький, то никто бы читать не стал…»
Ольга Леонардовна пообещала, что приедет на Рождество в Ялту, Чехов очень обрадовался, но это ей не удалось, и он стал нервничать; «Одни доктора говорят, что мне можно в Москву, а другие, что совсем нельзя, а оставаться здесь я не могу!»
Десятого декабря началось опять кровохарканье и продолжалось несколько дней. Антона Павловича уложили в постель. Конечно, Евгении Яковлевне трудно было вести дом и ухаживать за больным, да он и не допускал мать до ухода за собой. Отчасти это кровохарканье произошло из-за волнений за Толстого, который прибыл к дочери в Ялту и заболел.
Слава богу, на Рождество приехала к брату Марья Павловна, и уход за ним стал настоящий, как и еда, — она была прекрасная хозяйка.
Пятнадцатого января 1902 года я получил от Антона Павловича письмо. Поздравление с Новым годом и пожелания: «Прославиться на весь мир, сойтись с самой хорошенькой женщиной и выиграть 200 тысяч рублей по всем трем займам», а у меня и одного не было… Сообщает, что он хворал месяца полтора. Затем:
«…Писал ли я Вам насчет „Сосен“? — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона.
Итак, будем ждать, приезжайте поскорее; буду рад очень».
В январе во время болезни Толстого Антон Павлович за жизнь Льва Николаевича очень боялся. Лечил Толстого Альтшуллер и держал Чехова в курсе его болезни.
Седьмого февраля Толстому было особенно тяжело, плохо работало сердце. Чехов волнуется: «не выживет».
В это время на короткий срок, чуть ли на два-три дня, Ольга Леонардовна приезжала в Ялту на первой неделе поста, на второй неделе Художественный театр уже должен был играть в Петербурге — «Три сестры», «В мечтах», «Мещане»…
Волновался в эти дни Антон Павлович еще потому, что Горького не утвердили академиком. Он запрашивал Кондакова, Короленко, хотя как можно было возмущаться тем, что не утвердили выбранного в почетные академики Горького, который находился под судом! Чехов, вероятно, не знал регламента, не знал, например, что всякий почетный академик мог, приехав в какой угодно город, потребовать в какое угодно время — для пользы просвещения — зал для лекции — и без всякой цензуры. Можно себе представить, как бы стал пользоваться этим правом Горький?.. Ведь Куприна не избрали в почетные академики, несмотря на то, что несколько раз поднимался этот вопрос, только потому, что он под влиянием вина мог злоупотреблять где-нибудь в провинции этим правом.