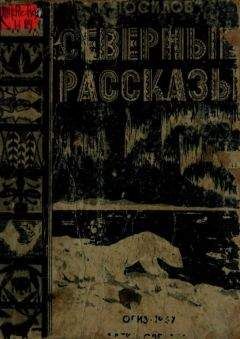И я, помню, долго, долго сидел тут на одной не совсем сухой кочке, любуясь этой привольной жизнью.
Потом, вдоволь насидевшись, я снова иду дальше, встречая на своем пути всевозможных птиц, и незаметно скоро, задумавшись, выхожу на берег самого моря.
Вот и оно, ледяное, спокойное, еще не проснувшееся для простора волн и шумного, веселого прибоя. Лед, лед и лед, белый, местами синеватый лед, до самого горизонта неба, и только одна полоса его у самого берега в виде спокойной реки открыта, и тут плавают тысячи всевозможных птиц, оглашая криком воздух.
Я делаю несколько шагов вдоль берега и обрыва и сразу натыкаюсь на целое громадное гнездо этого северного коршуна, которое, как беремя виц и мха и всевозможных трав, устроено в расселине неприступного, высокого глинистого обрыва. Завидев меня, с него слетает серая крупная самка, и я вижу перед собой четыре белых куриных крупных яйца, которые едва-едва так прикрыты пухом птицы.
Я делаю еще несколько шагов и слышу крик гусей, черных больших гусей, которые прямо срываются из-под обрыва. Я заглядываю туда и узнаю колонию этой птицы, которая несет свои яйца на обрывах скал. Она, подобно колонии северных чистиков, гнездится на берегах моря, несмотря, повидимому, на такое странное соседство коршунов и ястребов, которые должны бы, кажется, пользоваться ее детенышами и яйцами.
Помню, я долго сидел, опустив ноги с обрыва, на этом странном берегу и любовался этой дружной жизнью и наблюдал ее и думал. И помню, что я долго еще бродил между болотами, кочками и озерками, наблюдая новую для меня жизнь и полярную весну, и, вероятно, представлял из себя странную фигуру — в одной рубашке, с непокрытой головою, только что пробудился и выполз из чума на улицу, — что ко мне, наконец, прискакал на оленях в санках пастух, чтобы, вероятно, убедиться, в здравом ли я состоянии.
И, должно быть, он меня на этот раз застал тут очень странным, потому что, помню, его очень удивило то обстоятельство, что я даже не мог ему протянуть руки, чтобы поздороваться, будучи по горло нагружен только что выглянувшими в это утро травами и цветами, которые я нес для своей коллекции.
Он взялся меня доставить в чум, видя мое почти беспомощное положение, — босиком в голой тундре, — и я охотно сел на его санки и свесил ноги, и мы поехали, оставляя позади себя пару узких, сухих лыжниц, которые, как следы колес, вероятно, долго еще так останутся, видимые по прижатому ими сырому мху.
Роса блестела кругом, как бисер; зелень проглядывала, словно только что увидав свет, и солнце, низкое, так обливало мягко, нежно своим светом эту бледнозеленую растительность, как будто это был сплошной газон какого-то парка.
Вот и чум, розовый сегодня при лучах солнца, на горке. В чуму спали еще, когда я снова влез в него, осторожно прижимая к груди свою дорогую ношу.
Когда я в последний раз, года три тому назад, путешествовал по полуострову Ямалу среди самоедов и их бродячих оленей, мне не раз, не два приходилось невольно быть судьею и разбирать их дела, хоть и маленькие, но всегда крайне интересные.
Когда народ не знает ни суда, ни следствия и не имеет нужной защиты, он всегда прибегал и прибегает к посредничеству, а самоеды именно такой народ, которому редко-редко приходится бывать не только в судах, но даже в русских селах. А между тем, тот отбил у другого за что-то оленя, другой побил работника, который его не послушался, и все, как бы ни были малы и ничтожны их притязания, обязательно ищут правосудия, обязательно ищут случая снять с души старые горечи и обиды.
Никогда мне не забыть одного такого судьбища, которое мне выпало на долю в тундре. Как сейчас помню, мы только что приехали в какой-то чум. Чум был не один в этой местности: рядом, недалеко, в стороне, стояло еще их несколько, и самоеды живо собрались повидать русского человека, которого, быть может, другие сроду не видали. Самоед всегда интересуется русским и уж никогда не пропустит случая хотя издали повидать его, чтобы после сказать: — „я видел русского человека“.
Так было и в данном случае: к чуму тотчас же сбежались самоеды, и не успели мы с проводником-казаком войти в чум, как уже около нас была сплошная толпа.
Я люблю эти встречи, люблю эти минуты первого появления и любопытства самоедов, и обыкновенно самые ценные сведения мне как-то всегда приходилось записывать именно в эти моменты, когда дикарь еще не одумается и не углубится, когда он еще готов, под влиянием новости, сказать то, что он в другое время не скажет за деньги.
Так случилось и в этот раз, на этом становище; только что, помню, мы разговорились с самоедами, как сквозь толпу протискалась ко мне дряхлая старушка и, низко поклонившись, обратилась к моему проводнику с какой-то особенной просьбою.
Самоеды сразу затихли. Видно было по их лицам, что она просила о чем-то особенном, и все невольно заинтересовались ею и только поддакивали ей, когда она стала рассказывать что-то моему переводчику.
Я спросил переводчика, о чем она просит.
— Так, должно быть, пустое, на кого-то жалуется…
— Просит рассудить…
— Ну так что ж? Пусть сказывает, в чем дело. Посмотрим.
Он перевел ей мой ответ, и она снова что-то бойко-бойко заговорила.
— Что ей?
— Она просит привести обвиняемых…
— Ну, пусть ведет, что ли…
И бабушка, провожаемая общею радостью, быстро снова протискалась через толпу и ушла в свой чум неподалеку.
Прошло несколько томительных, молчаливых минут в ожидании судьбища; самоеды тоже, казалось, чего-то ждали; разговор сразу прервался, и я сидел, поглядывая на оживленную публику, чувствуя себя настоящим судьею, как дверцы снова распахнулись, и старушка важно провела через толпу и поставила передо мной пару маленьких детей.
Я немного, признаться, растерялся, но успел совладать с собой и молча стал глядеть на маленьких подсудимых, которые были, повидимому, страшно взволнованы торжественною обстановкою.
Их было двое — мальчик и девочка. Обоим, казалось, не было и десяти лет. Они молча стояли передо мною около ставшей на колени старушки, у которой было теперь до комичности серьезное, даже сердитое как будто лицо.
У девочки был чудный костюм, весь сделанный из разноцветных шкурок оленя, у мальчика — простая мужская оленья рубашка, но сквозь них было заметно, как поднимается грудь от волнения, заметно, как вздрагивают, дрожат маленькие ручки.
Я спросил, как их зовут, и кто они такие. Девочка дрогнула и опустила свои прекрасные, темные, длинные ресницы.
Старуха ответила за них, и мой проводник перевел:
— Девочку зовут Ные-Яптик-Удукай, мальчика — Хатюко-Окотетто.
— Сколько им лет?
Мне перевели:
— Девочке — пятый, а мальчику — шестой.
— Что они сделали такое, что на них жалуется старушка?
И мне передали ее жалобу, что ее не слушаются дети.
Я спросил, в чем заключается их непослушание, и мне передали подробно все дело.
Старушка жаловалась на них, что она не может с ними справляться: у них нет ни матери, ни отца, они одиноки и находятся на попечении бабушки; она их единственная опекунша, на ней лежат заботы стада и чума, она должна за ними присматривать и давать им есть, но они не понимают, сколько забот лежит на их бабушке, и порою так капризничают и ревут, что она готова убежать из ихнего чума… Она сообщила даже, что они ее ругают и говорят ей: „ты, старая, ничего не стоишь, ну и убирайся вон“, — и даже грозят прогнать ее вон из чума, как только станут большими и возьмут управление чума и стада в свои руки. И в заключение старушка чуть не в самом деле рассердилась и даже поклялась, что она бросит их и уйдет в тундру, где ее неминуемо съедят медведи.
Все это сказано было по-самоедски и переведено моим толмачом на русский язык. Выслушав все, я невольно проникся сожалением к бабушке, которая, казалось, была права.
Но когда бывает суд, должны быть и свидетели спрошены. Толпа подтвердила показания бабушки.
Пришлось обратиться непосредственно к подсудимым, и я спросил их, — признают ли они обвинение?
Им перевели; но они молчали, только тяжело вздыхая, и мне пришлось невольно взяться для страха за книжку, и я еще раз спросил их.
Дети всколыхнулись, у девочки показались на глазах слезинки, но мальчик упорно, гордо смотрел на бумагу, повидимому совсем не признавая над собой ни следствия, ни суда.
Я, прочитав детям нравоучение, сказал, что бабушку нужно любить и дал детям по конфетке, которые сразу так ко мне их расположили, что они подняли на меня с благодарностью свои глазенки.
Они оба дали мне торжественное при народе обещание, тихонько проговорив: „мундармам“, что значит — они обещают слушаться и никогда уже более бабушке своей не грубить. И затем со слезами на глазах бросились целовать свою бабушку.