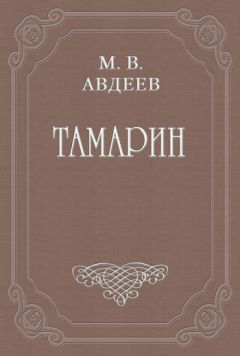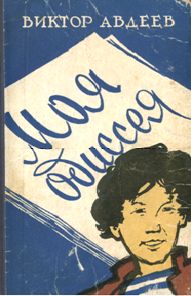Марион посмотрела ей вслед, обернулась к Тамарину и покачала головою. Тамарин усмехнулся.
– Как вы злы! – сказала Марион.
– Да ведь вам этого и хотелось, – отвечал Тамарин равнодушно.
Марион оставила его и пошла к дамам. Тамарин лениво встал, пробрался лениво между гостями и уехал домой.
Вскоре после их ухода Иванов закрыл кипсек и вышел. Не знаю, остался ли он доволен рисунками, но он был немного бледнее обыкновенного.
Маленькая комната, свидетельница маленькой сцены, осталась пустой.
Быть может, мой читатель или моя читательница посетуют на меня, что я им описываю мелкие сцены мелкой жизни; быть может, найдут, что эти обыденные вещи слишком незначительны для того, чтобы на них останавливать внимание, и что я им показываю бурю в стакане воды. Да позволено будет мне оговориться.
Любо мне было бы, дав волю фантазии, широкой кистью рисовать яркие картины. Привольно было бы моему перу чертить во весь рост правильные, резкие и высокие фигуры людей, созданных воображением, и в просторной раме развернуть их пылкие и глубокие страсти. Но что бы я ответил тогда себе, если б, строго взвешивая и ценя свой свершенный в тишине рабочего кабинета труд, при взгляде на полную картину, в которой ищешь мелких неверностей, чтобы поправить их последнею чертой, – если бы в это время предо мной возник вопрос: чьи это образы? где живут эти люди? какому веку, какой стране, какому слою общества принадлежат они? где они взяли свои живописные костюмы? где они выучили эффектные роли? у кого переняли они эти античные позы? И тогда, читатель, поглядев на Божий свет, в котором, может быть, мы не раз встречались, я бы даже при уверенности, что моя картина займет тебя, поставил бы ее перед собой, с авторским самолюбием каждый день любовался ею, но посовестился бы показать ее и, смирив полет фантазии, принялся бы чертить небольших людей в небольших драмах, которые имеют неудобство походить на тебя, на меня или на наших знакомых.
С другой стороны, есть отрадное убеждение и утешительная мысль при выборе верной и мелкой драмы, назначенной суду публики. Довольство ею вне условий исполнения есть признак нашего внутреннего развития. Бой быков и смерть гладиаторов не нужны для потрясения людей, умеющих плакать над вымыслом слепого старца. Сильно настроенная струна звучит от легкого прикосновения, восприимчивой бумаге достаточно одной секунды света, чтобы резко запечатлеть всю отраженную на ней картину. И в нашем обществе часто от одного резкого слова, одного холодного взгляда невидимо, но долго болит чуткое сердце, и весело и с улыбкой смотрит иногда светский человек на разрушенное счастье всей своей жизни.
Вот отчего я описываю мелкие сцены. И затем к делу.
В городе N, как во всех почти губернских городах, лучшие даже улицы не застроены сплошь большими домами и промышленность не толпится на них занять всякий свободный угол. На одной из этих улиц небольшой пятиоконный деревянный дом, довольно благообразной наружности, был занят Ивановым. Комнат в этом доме было немного, и большая и лучшая из них, которая, кажется, в намерениях строителя должна была играть роль залы, т. е. самой бесполезной и всегда почти незанятой в семейной жизни, была обращена Ивановым в кабинет. Меблировка его не отличалась провинциальными претензиями на столичную роскошь. Широкие, покойные диваны и шкаф с книгами занимали три стены; огромный стол, покрытый зеленым сукном, стоял почти во всю длину четвертой. Стол этот был весь завален книгами, бумагами, делами, и только посредине его оставалось небольшое свободное пространство, на котором был письменный прибор, портфели и место для письма. По углам, у диванов, были два небольшие столика; несколько покойных кресел по комнате и одно у стола дополняли меблировку.
Был еще час десятый утра, а уж Иванов сидел в своем кабинете и что-то писал. Вскоре пришла какая-то баба-просительница и долго рассказывала свою претензию, в которой почти нельзя было доискаться смысла, и несколько раз принималась кланяться и плакать, подперев предварительно рукою щеку; потом ушла она. Пришел мужик и тоже толковал долго, и когда Иванов, выслушав, отпустил его и принялся было писать, мужик отошел немного, вытащил из-под зипуна платок, развязал узлом завязанный угол, вынул целковый и, подкравшись, осторожно подал его Иванову.
– Ступай, ступай, – сказал Иванов, невольно улыбнувшись.
Мужик отошел, вытащил опять платок, опять развязал узелок, вынул еще целковый и снова поднес уже оба потихоньку Иванову.
– Ступай: ведь я тебе сказал, что просьба твоя будет исполнена; чего ж тебе еще! – сказал опять Иванов.
Мужик отошел и задумался.
– Что ж, батюшка! Ведь это не то, чтобы тово: ведь это из уважения к милости вашей; за что же отказом обижать?
Но заметив, что Иванов начинал сердиться, он вышел, думая про него, что вот и хороший человек, а гордый: благодарности не принимает.
А между тем Иванов снова принялся писать и писал долго и скоро, весь погруженный в свое занятие, пока наконец не окончил бумаги; и тогда, бросив перо, он опустился к спинке кресла, вздохнул, как после тяжелого труда, закурил сигару и задумался. Его умное и выразительное лицо, так недавно еще озабоченное работой, теперь все было отдано мысли и отражало сильную внутреннюю тревогу… Да, Иванов переживал одну из тяжелых минут жизни.
Бывает известная, болезненная настроенность и раздражительность сильной души, когда вдруг помрачено одно из ее светлых верований, или хотя слабо поколеблено какое-нибудь пылкое убеждение. Тогда сомнение, как зимний воздух в недотворенную дверь, нахлынет на нее, и нет уже более для нее в эту минуту ни верований, ни убеждений. Все лучшее души и все ее заветные помыслы одеты этим тонким паром сомнения, а все жесткое и черное жизни так и встает перед очами, так и звучит в ушах грустным воплем. Это не раздражительность желчного человека, которого сердит и дурная погода, и худо свернутая сигара, и пошлое лицо первого встречного, это сомнение странника, давно идущего одной дорогой и спрашивающего себя, в ту ли сторону ведет она; это неверие факира, полжизни бодро стоящего перед идолами и начинающего в них подозревать деревянные истуканы.
Тяжело было Иванову, подавив внутреннюю тревогу и весь сонм разнородных мыслей, который кипел в голове его, сидеть за деловой бумагой да выслушивать и разбирать чужие просьбы; но едва ли не тяжелее стало ему, когда он отдался своим думам.
Догадается, вероятно, читатель, что вчерашний разговор Тамарина с Варенькой был главной причиной этой раздражительности Иванова; но ошибется тот, кто подумает, что любовь играла тут какую-нибудь роль. Нет! Иванов не был влюблен в Вареньку; но для него она олицетворяла бесхитростное, чистое существо, до которого жизнь коснулась одной только благотворной стороной, – существо, которое во всем видит одно добро, потому что само не испытало и никому не делало зла. И вдруг Тамарин, которому Иванов мало сочувствовал и потому уже, что видел в нем человека, преданного только свету, и по его натуре, которая была диаметрально противоположна его собственной, – вдруг этот светский господин при первой встрече говорит с Варенькой тоном вежливого пренебрежения, делает ей какие-то намеки на ее прошлое, почти смеется над ней, а она вместо того, чтобы остановить Тамарина и заставить его краснеть и извиниться, сама приходит в замешательство, как будто в ней потревожили старый укор, открыли пятно прошлого, которое она тщательно скрывала…
Иванов в свой век, как и всякий, многому верил и во многом ошибался; каждая ошибка служила ему уроком, каждый раз он с большей осторожностью доверялся новому выбору; но года и опытность не изгладили в нем душевной теплоты, не уменьшили в нем потребности привязанностей; он выбирал строже, доверялся реже, но, раз выбрав, отдавался охотно и доверчиво своему предмету, своему убеждению, и тем больнее была для него всякая новая ошибка. В настоящем случае Иванов не разочаровался в Вареньке: он не был так подозрителен, чтобы по одному намеку разом потерять к ней всю доверенность, и так строг и нетерпим, чтобы ставить в преступление всякий проступок. Но она теряла в его глазах свою чистоту: может быть, пятно было и невелико и невидно, да оно было. И раз, когда сомнение смутило его внутреннее спокойствие, на многое иначе взглянул Иванов своей встревоженной душой; много вопросов, как стая испуганных птиц, чутко дремлющих на ночлеге, поднялось и встрепенулось в глубине мысли, – и недоверчивым оком посмотрел он тогда на многое внутри и вне себя.
Да! Иванов переживал, может быть, благотворную, но трудную минуту.
Он был выведен из задумчивости приходом одного приятеля – молодого человека.
– Здравствуй, Иванов, – сказал пришедший, – я к тебе по делу – посоветоваться с тобой; да ты, кажется, сегодня в хандре?
– Ничего! – отвечал Иванов, дружески пожав ему руку. – Хандра хандрой, а дело делом; что тебе?