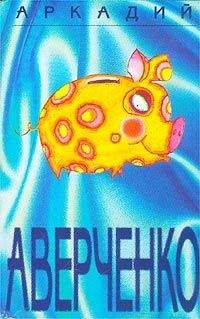— В чем дело? — растерялся пучеглазый.
— За что это вы?
— Ах, я вам так благодарен, — серьезно заговорил желтый господин. — Видите ли, дело в том, что я и есть тот самый господин, который спрыгнул тогда с Эйфелевой башни. Но только мне никто никогда не верил, что было так удачно: «врете», говорят. Вы первый человек, который подтвердили.
Все застыли, ошеломленные; но я не такой человек, чтобы остаться в тени в то время, когда мой ближний так удачно выдвинулся.
Я встал, нагнулся к белокурой даме в красной повязке, схватил и даму, и повязку в объятья и стал осыпать поцелуями, приговаривая:
— Родная моя! Голубушка! Какая приятная встреча!.. Если бы десять человек спрыгнули с десяти Эйфелевых башен, это не вызвало бы такого шума и скандала, как то, что я сделал…
Дама вырывалась из моих цепких объятий, крича о защите, о. дьякон и рачий господин схватили меня за руки — превеселая была суматоха.
— Он сумасшедший, — кричал дьякон. — Это вы его Эйфелем своим с ума свели.
— Как он осмелился? Как? — визжала дама.
Я выпустил ее из объятий и сложил руки на груди, приняв осанку, полную спокойного достоинства:
— Скажите, господа, — спросил я. — Имеет право муж целовать свою жену?
— Оно-то имеет, конечно, — сердито сказал о. дьякон.
— Так то ж муж, а вы так, пришей кобыле хвост…
— Нет-с, не хвост. При вас ведь эта дама говорила, что она жена писателя Аркадия Аверченко?
— При нас! Слышали-с.
— Ну, а я и есть писатель Аркадий Аверченко. Так и в паспорте написано. Полюбуйтесь.
Никто ничего не понял, кроме человека, спрыгнувшего с Эйфелевой башни.
Тот пожал мне руку и шепнул одобрительно:
— Я высоко прыгнул, а вы еще выше. Ей-Богу, тут весело.
Дама, все еще дрожа от испуга и чего-то другого, что мелькало в ее растерянном взгляде, поправила прическу, растрепавшуюся от моих поцелуев, и сказала пучеглазому, которого считала, очевидно, товарищем по несчастью:
— Колонель, проводите меня в коридор. Тут душно. Они вышли. Мужичонка и прыгун заняли их места и облегченно вздохнули.
— Ажио ноги заныли, стоямши, ажио дергает их.
— Мигает? — засмеялся я.
— Во-во. А что, господин, серьезно свою бабу здеся встретили?
— Ты ж видел, как она обрадовалась. Я встал и вышел в коридор размяться. Голос дамы журчал:
— Нигде нет такой жары, как в Ташкенте. У меня была нитка фамильного жемчуга, чтоб не соврать, — с орех величиной. И представьте, от жары жемчужины полопались.
— Бывает. У моего знакомого был аналогичный случай: сынишка играючись нитку бус по одной проглотил. Смотрят, отяжелел мальчишка. Понесли к доктору, а он гремит внутри, как погремушка, — одно безобразие…
I
Тот самый ветер, который сейчас выл и бесновался за окном, — этот самый суровый ветер и согнал сюда, в угол большой теплой комнаты, компанию из трех человек.
Это были: гость Тарантасов, хозяйка усадьбы, заброшенной в снегах, Мария Дмитриевна, и ее муж — Вонзаев.
Праздничные дни тянулись в мирной усадьбе очень медленно и располагали всех к наливке, орехам и медленным, тягучим разговорам…
Ветер за двойными рамами окон выл таинственно, так зловеще, что всем хотелось прижаться друг к другу и так, чувствуя себя в безопасности, послушать что-нибудь холодящее душу и вызывающее мурашки по всему телу.
— Странные случаи бывают в жизни, — поощрительно заметил приезжий помещик Тарантасов.
— Такие случаи бывают, что с ума сойти можно, — подтвердил хозяин Вонзаев.
Мария Дмитриевна опасливо взглянула в неосвещенный угол, и мелкая дрожь пробежала по ее телу.
— Когда я была молода, со мной случился факт, о котором я и теперь не могу вспомнить без ужаса. Дело было в Москве…
Все придвинулись друг к другу.
— …В Москве. Мы жили в одном из тех многочисленных переулков, в которых всякий не знакомый с Москвой ногу сломит. И вот стала я замечать, что на углу нашего переулка стоит старик нищий с одной ногой. Другой ноги у него не было, а была только одна. Левая, что ли… Или правая… Стоит этот нищий себе и стоит. Чего стоит, почему стоит — неизвестно. Стоит он день, два дня, три — прямо я даже удивлялась.
— Да чего ж он стоял? — спросил муж.
— Как чего? Просил милостыню.
— Ну, в этом ничего страшного нет.
— Особенного, конечно, в этом ничего не было, а только я все время замечаю: стоит он на углу и милостыню просит. Стоит и просит.
— Что ж ему. с голоду умирать, что ли? — резонно возразил муж.
— Я об этом и не говорю. Только вдруг, однажды, — можете себе представить, — этот нищий исчез! День его нет, два дня нет, три… Мне сначала это показалось удивительным, а потом я постепенно забыла.
— Чем же все это кончилось? — нетерпеливо спросил гость.
— Чем? А вот чем: ровно через десять дней от тети получилась телеграмма: «Дядя Терентий волей Божией тихо скончался».
— Гм!.. так это что ж, — значит, этот одноногий старик и был ваш дядя Терентий?
— Ничего подобного! Это был просто неизвестный старик.
— Так что же вы находите в этом случае удивительного!
— Как что?! Стоял, стоял старик — вдруг исчез. И что же — через десять дней умирает дядя.
— И вы не знаете, куда делся этот старик?
— Совершенно не знаю.
— Может быть, он просто заболел или переменил стоянку.
— Тогда зачем было умирать дяде?
— Предположите, что он умер сам по себе.
— Тогда почему и куда исчез старик? Нет, тут, как ни верти, есть какая-то неразрешимая странная загадка.
II
— Ну, со мной была история пострашнее, — сказал гость Тарантасов.
— Ой, не надо! — капризно протянула хозяйка, подбирая ноги. — Или нет, расскажите! Я вас очень прошу!
— Как вам известно, господа, я всегда живу в своем имении «Пятереньки». Живу я там безвыездно и только изредка наезжаю в уездный город Чмыхов, вам известный.
Но однажды мне пришлось по делу о вводе меня во владение наследством, оставленным моим дядюшкой Ильей Никитичем, поехать в Петербург.
Город громадный, улиц целая гибель, и дома все если не шести-, то семиэтажные.
Как-то вечером зашел я к приятелю, что проживал в шестиэтажной махине на Гороховой улице.
Говорили о том о сем, а главное, о разной чертовщине.
— Вот, — говорит мой приятель, — ты живешь в деревне, бок о бок со всякой нечистью, с домовыми, а у нас, в городе, совершенно другая жизнь. Всю поэзию нечистой силы съели трамвай да электрическое освещение.
А другой — паренек такой белесый, с косматым цветком в сюртуке — говорит:
— Нет, знаете, в городе есть своя особая городская мистика, есть своя загадочная сущность, и я, — говорит,
— утверждаю, что в городе та же нечистая сила осталась в полном объеме, только под влиянием культуры изменила она свои нравы и обычаи и надела другую личину.
— Так вы думаете, — спрашиваю я, — что и у вас тут, в этих домах, домовые водятся?
— А то как же?! Только, — говорит, — они потеряли свою дикость, некультурность — надели другие личины.
— Я, — говорит, — уверен, что у них это дело поставлено на широкую городскую ногу.
— Это как же? — спрашиваю я.
— Да вот так: у вас, вон, небось, все занятие домовых сводится к тому, что лошадям хвосты заплетать да по ночам спящую публику душить; а у нас, в городе, это посложнее… Лошади не везде есть — их автомобили заменили. А автомобилю хвоста не заплетешь! Разве что из жестянок бензин можно высосать. Да и две-три сотни жильцов по ночам душить — не очень-то с ними кустарным способом справишься,
— для этого нужно целую хорошо организованную контору иметь.
Ничего себе парнишка рассуждал. Очень здраво.
Когда я собирался уходить от приятеля, было уже 12 часов ночи. Вышел он меня провожать на площадку лестницы, посветил лампой да еще и посмеялся: смотри, дескать, на домового не наткнись.
Жутковато мне стало, однако собрался я с духом — спускаюсь с лестницы.
И вдруг на одной из полуосвещенных слабой керосиновой лампочкой площадок я увидел…
Вы, вероятно, господа, думаете — увидел домового? Косматую фигуру с красными глазами, кривыми серыми руками и старческой морщинистой безволосой головой?
Нет, господа! Я увидел нечто худшее. На площадке в углу виднелась небольшая дверь, а на ней сверху я увидел ужасную, холодящую кровь надпись: «Домовая контора»!
Итак, юнец с лохматым белым цветком в петлице не врал: я воочию видел перед собой это ужасное логовище проклятой Богом нечисти.
Я простоял так много секунд, прижавшись к противоположному углу… Наконец мне пришло в голову: «Не галлюцинирую ли я? Не схожу ли я с ума?»
Как сумасшедший, сорвался я со своего места и ринулся вниз с диким криком: