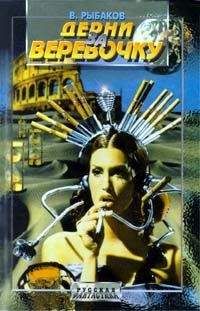Конечно, Курта было жаль. Но думать долго о неприятностях не хотелось. С первых дней вторжения Отто Лемминг пребывал в том приподнятом, возвышенном состоянии духа, которое делает людей гениями. И временами он ощущал себя таковым.
Поверженный враг не вызывал жалости. А завоеванная страна порождала временами тоску. К чему эти огромные сырые пространства, приучившие людей не ценить своей земли? Рассуждая с собой, Лемминг быстро пришел к выводу, что народ этот сам виновен в своем жалком существовании. В страхе и покорности он дозволял своим царям любые чудачества, удовлетворяясь терпением и скотским бытием. Ни дорог, ни жилья сносного. Унылые, душные хижины с мелкими оконцами, наглухо закрытыми даже в летний зной. Зачем? Наверное, считали, что воздуха и пространства хватает поверх стен? Словно дом не главное средоточие отведенных человеку радостей и счастья, а временное прибежище от рабского, каторжного труда. И название-то какое изба-а… избушка. Фу! От одних звуков уныние. То ли дело "кирхен", по-немецки, — светло и радостно. Разве жалкие, подслеповатые избы похожи на добротные, крытые черепицей дома в его родной Баварии?
Ему не пришлось участвовать в Западной кампании, где некоторые сверстники набрали богатства и наград. Теперь судьба уравновесила их шансы, и чувство зависти растворилось в ранее неведомом, жестоком и безжалостном упоении победой.
В минувшем году он читал в газетах и живо представлял по рассказам, как бежала французская армия. Но то, что он увидел в России, превзошло все ожидания.
Оберст Форк сказал, что на него, Отто Лемминга, имеются у начальства особые виды, поскольку он изучал русский язык. И надо ждать перемен.
Немцы ходили злые. Танковые моторы ревели. Столько женщин, такое богатое село, но передышка оказалась короткой. Поступил приказ двигаться дальше.
Отдавая последние распоряжения, Лемминг запретил хоронить убитую старуху. В назидание местным жителям. И она лежала в пыли, уменьшившись наполовину, как бы напоминая другим о начале всеобщей гибели.
Надежду отпаивали колодезной водой в ущековском сарае, куда женщины начали опять потихоньку стекаться. Молоденькая невестка Ущековых Соня ухитрялась добывать им кое-какую еду, хотя в ее доме тоже стояли немцы.
К ночи Надежда немного отошла, уже не лежала, а сидела, стиснув зубы и глядя в одну точку. Не тряслась, не плакала. Танковые моторы вдруг перестали урчать. До ночи немцы так никуда и не тронулись.
Молодые девушки решили уходить из села и сидели, дожидаясь темноты. Ущековская усадьба примыкала к совхозному саду. Через него, за Лисьи Перебеги и дальше лесами хотели податься на Барановичи. По слухам, там были наши.
Надежда поклялась отомстить за Степаниду, которая все еще лежала перед крыльцом. В старом сарае за домом стояла бутыль с керосином, которую старая хозяйка берегла пуще глазу. Теперь керосин мог пригодиться для другого дела.
Перед рассветом немцы угомонились. Даже в Степанидином доме, где песни орали пьяными голосами дольше всего, сделалось наконец тихо. Несколько раз один и тот же немец, в стельку пьяный, выбегал помочиться прямо с крыльца. Потом и он затих. Женщины ждали, покуда в окнах загасят огонь.
Рассвет уже окрасил в прозелень полоску над лесом, когда Надежда пробралась в Степанидин сарай, отыскала бутыль, облила керосином крыльцо и угол дома. Но бросить спичку не успела. Кто-то большой и сильный навалился сзади, мял, заламывая руку. Надежда подумала про немцев, но оказался свой, местный.
Оттащив Надежду и выломав из ладони коробок, дед Ущеков кольнул напоследок острой бороденкой.
— Всю деревню спалишь, — прошипел он зло. — Сама уйдешь, тута у тебе ничего нету. А где мы жить будем? Чума на твою голову. — Иди! Иди! замахал дед.
Не скинув одеяла, Отто Лемминг повалился в сапогах на кровать и попытался вздремнуть. Здравый немецкий смысл возобладал, и оберст Форк задержал движение танковых колонн до утра. А скорее всего, распоряжение пришло свыше. Этим следовало воспользоваться без промедления.
Лемминг долго ворочался в постели и курил. Отдых, о котором столько мечталось, не получился. В каком-то странном забытьи, где перемежались и сон и явь, он пролежал некоторое время. Услышал в сенях треск и подумал, что, наверное, Генрих будет отпрашиваться на часок для своих обычных дел. Обер-лейтенант подумал, что тут есть с кем позабавиться. Хотя бы с той чумазой, которую он нечаянно спас. Какие-то соблазнительные линии ему почудились. Если, конечно, умыть, сойдет для доблестных солдат вермахта. Сам Лемминг был чересчур разборчив, чтобы цепляться за каждую понравившуюся юбку. Не то что Генрих. Тому — было бы две руки и две ноги. А что посредине — все равно. Он еще не выбился из подростков, когда пожилая служанка научила его премудростям любви. С тех пор он носится как угорелый. Готов ловить все, что движется. И уже преуспел тут, в России. А Лемминг узнал женщин поздно, когда уже много передумал и перечувствовал. И этой женщиной стала Магда. Иногда он понимал Генриха. Женские силуэты его завораживали. Но вблизи — с жаром и потом, с мокрыми губами — они порождали в нем отторжение. Он терпел это только от Магды, которая стала его первой и единственной женщиной.
— Генрих! — рявкнул он, поворачиваясь на кровати.
Женщины — ладно. Здесь единственная страсть — в укрощении собственных страстей. Но, помимо любви, есть более сильный наркотик — власть. И тут Лемминг не собирался уступать никому. Генеральские лампасы, как это говорится, перетянут косой десяток женщин. Что подразумевают под этим понятием русские, Лемминг не знал. Но полагал, что больше двадцати. И чтобы доказать эту власть хотя бы Генриху, он пошлет его с поручением. Пусть завяжется в узелок, но сделает то, что прикажет он, Отто Лемминг.
Опять что-то треснуло в сенях, и обер-лейтенант подумал о бедности языка… Сени… Он неплохо изучил русский и знал, что высушенную траву тоже называют "сени".
Немного отдохнув, он подумал, что Генриха можно никуда не посылать, даже отпустить на пару часиков для его обычных забав. Пусть этот неуемный хорек потешится. Можно побыть одному. Телохранители тут не нужны. По данным разведки, на сорок миль вокруг не осталось ни одного вражеского солдата, способного к сопротивлению.
Но Генрих почему-то чаще вызывал не жалость, а злость. В два часа он, конечно, не уложится и будет утром с понурой головой ковырять носком землю и прятать плутоватые глаза, в которых сквозит не раскаяние, а радость. Он всякий раз после ночных похождений глядит так, будто превзошел всех начальников, каких только может вообразить его тупой ум. И сейчас хитрит, медлит, собирается с мыслями, чтобы обмануть его, обер-лейтенанта.
С чувством злости на Генриха, на страну, которая не хочет сдаваться, на судьбу, слишком медленно приближающую время генеральских лампасов, Лемминг направился к выходу, толкнул дверь.
Но рука его провалилась. Кто-то позаботился о том, чтобы облегчить ему, будущему генералу, это усилие. Лемминг подумал о Генрихе. Но вместо худой носатой физиономии увидел свирепое квадратное лицо, заросшее многодневной щетиной до самых глаз, и лохмотья, отдаленно напоминающие армейское обмундирование. Зато рука была твердой. Лемминг задохнулся, ощутив на горле железные пальцы. Попробовал трепыхаться, но потерял сознание. Первый раз в жизни. Очнувшись, понял, что его связанного куда-то волокут. Он был нужен им. Очевидно, как язык, иначе его давно бы убили. А если взяли в плен то, должно быть, не заблудшая группа вояк, а регулярная часть. Странно, что он, изучавший русский, не мог понять, что они говорят.
Первым чувством была злость на Генриха, который прозевал русских. Но краем глаза успел заметить темный мундир, тряпкой висевший на заборе, и понял, что это его бывший денщик.
Появление русских солдат в расположении танковой дивизии было противоестественным. По мнению Лемминга, должен был возобладать законный порядок вещей. В конце концов так и случилось. Русских обнаружили. Когда началась перестрелка, Лемминга запихали в какую-то яму. Прижавшись лицом к земле, он мысленно продолжал бороться. При первом удобном случае намеревался бежать. Находиться среди своих и так нелепо пропасть невероятно.
Огонь тем временем усилился.
— Пора, Иван! — разобрал он наконец чужую речь.
Русские готовились отходить. Иван, очевидно, был тот, заросший щетиной, с квадратным лицом.
Из-за ближней избы вывернул танк и с грохотом, сметая все на пути, двинулся к ним. Выстрел из танковой пушки и ослепительный взрыв дали Леммингу шанс. Опираясь связанным локтем, потом коленями, он выбрался из ямы и побежал.
— Пора, Иван! — донеслось опять.
— А этот?
Лемминг бежал со связанными руками. Шедший на выручку танк вдруг вспыхнул ослепительно синим светом. Но погибал не танк, а обер-лейтенант Лемминг. Деловито посланная пуля впилась в спинной мозг и перерубила его пополам.