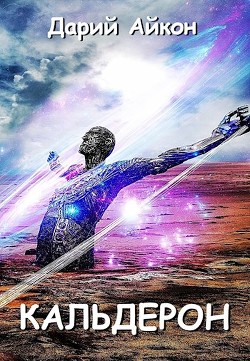замер.
Я стиснула зубы и кулаки, пытаясь стать безразличной. Если сжаться как следует, то слезы не потекут и сердце успокоится.
Довольно скоро в окна вполз серый рассвет. Мне не хотелось, чтобы этот день начинался. Я неохотно спустилась вниз, зажгла огонь в очаге, сунула ноги в ботинки и вышла наружу. От моего дыхания в воздухе повисло облачко. Я протопала в сарай и поставила табуретку рядом с Мэнди, нашей единственной коровой, которая давала жалкие капли молока. Она посмотрела на меня грустными карими глазами, как будто тоже не хотела, чтобы день начинался.
Когда я вернулась с ведерком молока и горстью яиц, мама сидела у стола, одетая в коричневый муслин. Сложив руки и опустив голову, она молилась. У мамы были великолепные волосы, ниже пояса. Когда она стягивала их повыше на своей маленькой головке, они жили собственной жизнью, переливаясь при каждом ее движении — шпильками она никогда не пользовалась.
Я не могла расслышать молитв, но ее бормотание успокоило меня. Я согрела молоко, разбила и поджарила яйца, смолола кофе. Когда я накрыла на стол, туман уже рассеялся, и полоска солнечного света легла на мамино лицо, на гладкие высокие скулы, на тихо двигавшиеся твердые губы. Даже ранней весной она оставалась смуглой — мне повезло не унаследовать от нее этот оттенок кожи.
Она закончила молитву и открыла глаза. Заморгала от яркого солнечного луча.
— Я надеялась, что у твоего отца хватит совести попрощаться, — сказала она. Ее всегда ровный голос дрогнул.
Я подцепила яйцо на вилку:
— Он попрощался.
Моя маленькая мама была очень сильной, и я знала, что она не будет плакать в моем присутствии.
— Хорошо. — Она налила в кофе теплого молока. В глубине души я надеялась, что она расскажет мне, как вернуть его. Вместо этого она сказала: — Земля оттаивает. Пора сажать горох.
Есть мне не хотелось, но я проглотила яйца ради мамы, не отрывая взгляда от скрипичного футляра на стене. Папа не знал другой радости, кроме этой скрипки, но все же оставил ее нам.
После завтрака мама заперлась в спальне, а я стала копать в грязи канавки. Но не успела я посадить ни единой горошины, как мама вышла и протянула меня письмо.
— Потом посадишь. Сходи в город и отправь письмо. — Она дала мне два пенни. — Вот, на марки.
— Кому ты пишешь? — спросила я, отряхивая руки и пряча монеты в карман юбки.
— Сестре Марии в Нью-Йорк. Иди давай.
Раньше я никогда не слышала, что у нее есть сестра в Нью-Йорке. Мать с отцом всегда говорили, что их родня слишком далеко, чтобы о ней думать.
— Да, мам. — Я сунула тощий конверт в пальто, завязала шнурки и двинулась в путь.
Дорога к городу, там, где не пригрело солнце, так и не оттаяла, и я могла не наступать в грязь. Только через час с лишним я добралась до широкой главной улицы Катоны, где домишки наползали один на другой, словно люди, которые не могли оставаться в одиночестве. Я не представляла, как это — жить настолько близко к кому-то. Мне почти не приходилось иметь дело с незнакомыми людьми, и в почтовом отделении пришлось непросто. У служащего были круглые очки и смешная шляпа. Я молча придвинула к нему письмо и монеты. Он улыбнулся и сказал, что денек выдался хороший. Ну для него, может, и хороший, подумала я.
Когда мама легла спать, я потушила огонь в очаге, поставила чехол со скрипкой у двери, подошла к каминной полке и открыла маленькую стеклянную дверцу часов. С минуту смотрела, как качается маятник, а потом остановила его. Стрелки показывали восемь часов тридцать две минуты. Я хотела, чтобы папа, вернувшись, понял, что часы не останавливаются из-за мертвых детей. Они останавливаются из-за живых людей, которые уходят.
Раз в неделю мама посылала меня в город справляться, нет ли ответа. Она предупредила, что не знает, как ее письмо будет принято. «Ты уже достаточно взрослая, чтобы узнать правду о моей семье», — сказала она. Выяснилось, что мама выросла в Нью-Йорке и влюбилась в папу, который приехал продавать яблоки с фермы своего отца. Я не могла представить маму где-то, кроме этой хижины.
— А я когда-то была городской девчонкой, — улыбнулась она.
Когда яблоки кончились, папа приехал в фургоне, нагруженном рождественскими елками. Мама говорила, что он выдумывал любые предлоги, лишь бы повидать ее, а когда ей исполнилось пятнадцать, предложил пожениться. Но родители не хотели отпускать ее из города. Мать рыдала, а отец просто ее избил. Когда она сказала, что все равно уедет, они выбросили ее вещи на улицу и отвернулись от нее. Она ни разу не осмелилась им написать. Единственным членом семьи, с кем она поддерживала связь за эти семнадцать лет, была сестра Мария — самая старшая, которая заботилась о маме в детстве. Мать сказала, что если нам кто-то и поможет, то только она.
Конечно, мы получили письмо — к середине августа — покоробившееся, как написала тетя, от пролитых слез. Бабка с дедом уже умерли, и Мария писала, что мы должны немедленно приехать и что она всю жизнь ждала возвращения своей маленькой сестренки.
Неделю спустя я стояла в тени дикой яблони и наблюдала, как мама ведет Мэнди по дороге. Корова смотрела грустно и задумчиво, будто понимала, что ее продадут, чтобы взамен получить сверкающую кожаную сумку и сверток в бурой бумаге. Вернувшись домой, мама протянула мне этот сверток с таким видом, будто выиграла приз. Непослушные волосы спадали ей на лицо. После получения письма она стала такой счастливой, какой бывала, только когда папа прижимал ладонь к ее растущему животу.
Сняв новенькую хрустящую бумагу, я обнаружила под ней кремовую ткань с желтыми цветами. Когда я ее расправила, она коснулась моих ног. Это было платье, приталенное и отделанное по вороту и рукавам желтым атласом. У меня никогда не было таких красивых вещей. Глаза мамы вспыхнули радостью. Надеюсь, она решила, что я расплакалась тоже от радости. Но на самом