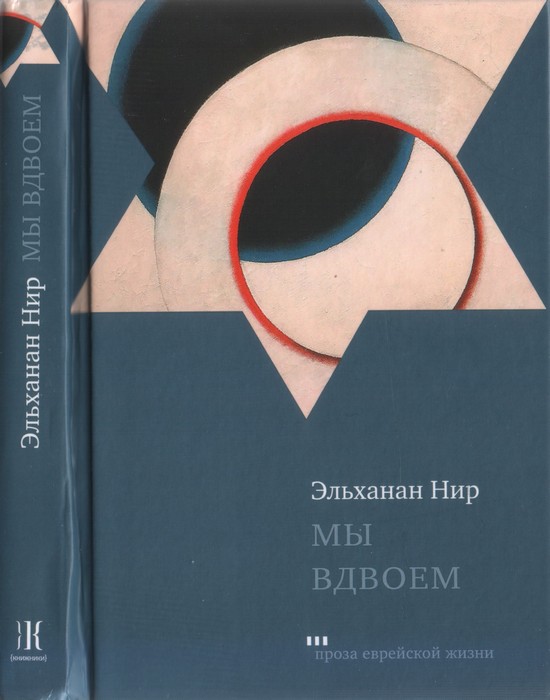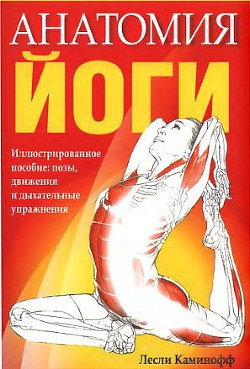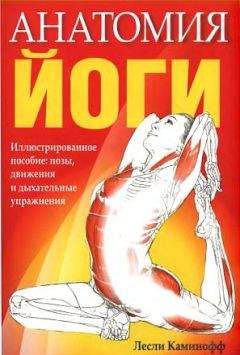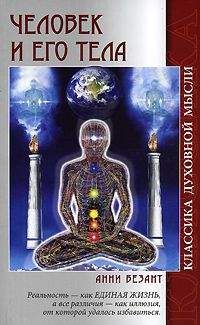Йонатан позвал Мику:
— Едем назад! Алиса рожает! Она уже по пути в больницу!
Мика ответил:
— Невероятно.
Йонатан напрягся и с истерическим напором сказал:
— Да, и не забудь, что ты мне дал слово, иначе я бы не поехал.
— Конечно, едем. Конечно. Никаких проблем, только вывеску приделаем. — ответил Мика.
Но Йонатан перебил его:
— Ничего подобного, ты обещал, что мы вернемся, и мы возвращаемся сейчас же. Никаких вывесок.
Мика возразил:
— Это займет одну секунду.
Но Йонатан повторил:
— Нет. Ты обещал.
Мика выругался, но уступил:
— Ладно, главное, что мы начали возводить в его честь площадку. Знаешь что? По-моему, мы свое сделали, и кто вообще такие этот рав Гохлер и все это придурочное поселение.
На воротах никого не было, и Мика сунул руку в карман, куда, как ему представлялось, он положил ключ, но карман был пуст.
— Черт, ключа нет! — воскликнул Мика. Йонатану казалось, что он вот-вот лопнет, а Мика произнес: — Наверное, он выпал, когда мы растянулись на земле, я вернусь туда и найду его.
Они вернулись в сад и пустились на поиски ключа, подсвечивая себе фонарем, но не отыскали его, и Мика, несмотря на протесты Йонатана, прислонил к большому дереву посреди сада вывеску и вспомнил, что вернул ключ на свое место. Они поехали назад к воротам, на этот раз там оказался сторож, который посветил на них своим фонарем и неожиданно знакомым голосом спросил:
— Вы же Лехави?
И Мика закричал в изумленное лицо Ариэли-старшего:
— Ариэли, умоляю, открывай скорей, мы едем в больницу!
12
В канун Пурима в Беэроте устраивали три отдельных празднования. Одно, мужское, — в банкетном зале при синагоге, второе, женское, — в библиотеке, а третье, смешанное, — в отремонтированном клубе. Последний праздник сами участники подчеркнуто именовали «семейным» и оскорблялись, когда другие пренебрежительно называли его «смешанный». Разумеется, там не происходило, упаси Господь, смешанных танцев, как было принято в прошлом поколении движения «Бней Акива» [164], а всего лишь разыгрывалось какое-нибудь небольшое развлекательное представление.
Эммануэль не был уверен, пристало ли ему идти на мужское празднование. Тридцатидневный траур по Идо уже истек, но сердце запрещало ему веселиться.
Порадуйся немного, сегодня Пурим, нехорошо все время тонуть в печали, уговаривала его Анат сходить хотя бы ненадолго. Наконец он оказался в банкетном зале при синагоге. Даже совсем отдалившись от ешивного мира, он не позволял себе принимать участие в «смешанном» праздновании вместе с плюралистами, которых втайне презирал и обзывал «лайтами».
В зале ешиботники и семейные мужчины танцевали в едином белом вихре. В центре круга скакал рав Гохлер, весь в поту. Его рубашка и цицит выбились из-под ремня, глаза были закрыты в упоении от новой песни «Ибо Ты обильно одарил меня милостями» [165]. Именно в тот год, когда Эммануэль не удостоился милостей, эта песня, будто по иронии судьбы, стала неофициальным гимном поселения.
Один из студентов наклонился возле Эммануэля, и его вырвало. Эммануэлю стало гадко от этого, от назойливо звучащей песни, от вида рава Гохлера, пляшущего в деланном экстазе. Со дня похорон Идо история с равом Гохлером не разрешилась, а становилась все туманнее, и Эммануэль предпочитал не сталкиваться с Гохлером ни на улице, ни в синагоге. То ли болела голова тогда у Гохлера, как утверждала его жена в сдержанном извинении перед Анат, то ли не болела — какая мне разница, подумал Эммануэль и только собрался отправиться домой, как его крепко схватил Ариэли со словами «рабейну [166] Эммануэль, пойдем в середину» и поволок во внутренний круг. Но Эммануэль упирался — ему неприятно было входить в быстрый, бурлящий ритм молодежи. Тогда Ариэли втащил его в средний круг — тот, где находился рав Гохлер.
— Ты должен танцевать, — увещевал он, и из его рта при этом тянулась нить слюны. — Двое раввинов поселения обязаны станцевать вместе! — вдруг закричал он.
Рав Гохлер, порядочно пьяный, сжимающий в руке бутылку арака «Захлауи» и мокрый от пота, оставил свое место в кругу танцующих, подошел к Эммануэлю и сказал, не открывая глаз: «Реб Эммануэль, я вас так люблю, так обожаю. Но как вы могли допустить такое упущение — отказаться от мицвы [167], отвергнуть величайшее прославление Господа. Это сильнее укрепило бы наше место здесь. Все в мире знали бы, что мы вернулись домой, ведь мы не только живем в Беэроте, учим Тору в Беэроте, молимся в Беэроте — но и умираем в Беэроте, ложимся в землю в Беэроте, ждем воскрешения мертвых в Беэроте. Посреди чудовищной личной боли на ваш порог явилась возможность освятить наследие наших предков — кто знает, быть может, именно ради этой возможности на вас пали ужасные страдания — а вы, несмотря на все ваши чудесные и поразительные богословские таланты, не выдержали такого колоссального испытания».
Ариэли, тоже изрядно навеселе, все же заметил Эммануэль вне себя от услышанного, поспешил вызволить его из круга и сказал, что рав уже не может отличить проклятого Ѓамана от благословенного Мордехая [168] и не стоит принимать сейчас его слова близко к сердцу. Но Эммануэль был взбешен.
«Я сюда больше не вернусь», — сдавленным тоном ответил он Ариэли, словно у него не было ни сил, ни желания произнести эти слова в полный голос. Потом поднялся в пустую синагогу, горестно посмотрел на свое постоянное место, окинул взглядом помещение: отсюда он годами отправлял к небесам тысячи молитв, здесь более семи лет служил членом синагогального совета и сюда своими же руками привел рава Гохлера. «Здесь я молился тридцать один год, но больше не ступлю сюда ни ногой», — твердо произнес Эммануэль.
Когда он пришел домой, Анат еще не спала. Неторопливо прочитав псалмы, она изучала Свиток Эстер с комментариями, но, едва взглянув на Эммануэля, сразу поняла: с ним случилось нечто страшное.
«Что стряслось?!» — испуганно воскликнула она. «Мы уезжаем, — сказал Эммануэль, пытаясь сохранить спокойный тон, но потерял самообладание и сорвался на крик: — Ничего другого не остается, рав накричал на меня при всех, неимоверно унизил, и все