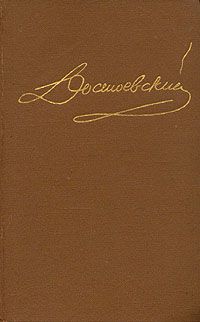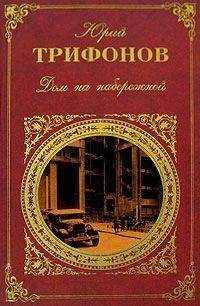Но еще чрез неделю от Белоконской получено было еще письмо, и в этот раз генеральша уже решилась высказаться. Она торжественно объявила, что «старуха Белоконская» (она иначе никогда не называла княгиню, говоря о ней заочно) сообщает ей весьма утешительные сведения об этом… «чудаке, ну, вот, о князе-то!». Старуха его в Москве разыскала, справлялась о нем, узнала что-то очень хорошее; князь наконец явился к ней сам и произвел на нее впечатление почти чрезвычайное. «Видно из того, что она его каждый день пригласила ходить к ней по утрам, от часу до двух, и тот каждый день к ней таскается и до сих пор не надоел», — заключила генеральша, прибавив к тому, что чрез «старуху» князь в двух-трех домах хороших стал принят. «Это хорошо, что сиднем не сидит и не стыдится как дурак». Девицы, которым всё это было сообщено, тотчас заметили, что маменька что-то очень много из письма своего от них скрыла. Может быть, они узнали это чрез Варвару Ардалионовну, которая могла знать и, конечно, знала всё, что знал Птицын о князе и о пребывании его в Москве. А Птицыну могло быть известно даже больше, чем всем. Но человек он был чрезмерно молчаливый в деловом отношении, хотя Варе, разумеется, и сообщал. Генеральша тотчас же и еще более не полюбила за это Варвару Ардалионовну.
Но как бы то ни было, а лед был разбит, и о князе вдруг стало возможным говорить вслух. Кроме того, еще раз ясно обнаружилось то необыкновенное впечатление и тот уже не в меру большой интерес, который возбудил и оставил по себе князь в доме Епанчиных. Генеральша даже подивилась впечатлению, произведенному на ее дочек известиями из Москвы. А дочки тоже подивились на свою мамашу, так торжественно объявившую им, что «главнейшая черта ее жизни — беспрерывная ошибка в людях», и в то же самое время поручавшую князя вниманию «могущественной» старухи Белоконской в Москве, причем, конечно, пришлось выпрашивать ее внимания Христом да богом, потому что «старуха» была в известных случаях туга на подъем.
Но как только лед был разбит и повеяло новым ветром, поспешил высказаться и генерал. Оказалось, что и тот необыкновенно интересовался. Сообщил он, впрочем, об одной только «деловой стороне предмета». Оказалось, что он, в интересах князя, поручил наблюдать за ним, и особенно за руководителем его Салазкиным, двум каким-то очень благонадежным и влиятельным в своем роде в Москве господам. Всё, что говорилось о наследстве, «так сказать о факте наследства», оказалось верным, но что самое наследство в конце концов оказывается вовсе не так значительным, как об нем сначала распространили. Состояние наполовину запутано; оказались долги, оказались какие-то претенденты, да и князь, несмотря на все руководства, вел себя самым неделовым образом. «Конечно, дай ему бог»: теперь, когда «лед молчания» разбит, генерал рад заявить об этом «от всей искренности» души, потому «малый хоть немного и того», но все-таки стоит того. А между тем все-таки тут наглупил: явились, например, кредиторы покойного купца, по документам спорным, ничтожным, а иные, пронюхав о князе, так и вовсе без документов, — и что же? Князь почти всех удовлетворил, несмотря на представления друзей о том, что все эти людишки и кредиторишки совершенно без прав; и потому только удовлетворил, что действительно оказалось, что некоторые из них в самом деле пострадали.
Генеральша на это отозвалась, что в этом роде ей и Белоконская пишет и что «это глупо, очень глупо; дурака не вылечишь», — резко прибавила она, но по лицу ее видно было, как она рада была поступкам этого «дурака». В заключение всего генерал заметил, что супруга его принимает в князе участие точно как будто в родном своем сыне и что Аглаю она что-то ужасно стала ласкать; видя это, Иван Федорович принял на некоторое время весьма деловую осанку.
Но всё это приятное настроение опять-таки существовало недолго. Прошло всего две недели, и что-то вдруг опять изменилось, генеральша нахмурилась, а генерал, пожав несколько раз плечами, подчинился опять «льду молчания». Дело в том, что всего две недели назад он получил под рукой одно известие, хоть и короткое и потому не совсем ясное, но зато верное, о том, что Настасья Филипповна, сначала пропавшая в Москве, разысканная потом в Москве же Рогожиным, потом опять куда-то пропавшая и опять им разысканная, дала наконец ему почти верное слово выйти за него замуж. И вот всего только две недели спустя вдруг получено было его превосходительством сведение, что Настасья Филипповна бежала в третий раз, почти что из-под венца, и на этот раз пропала где-то в губернии, а между тем исчез из Москвы и князь Мышкин, оставив все свои дела на попечение Салазкина, «с нею ли или просто бросился за ней — неизвестно, но что-то тут есть», — заключил генерал. Лизавета Прокофьевна тоже и с своей стороны получила какие-то неприятные сведения. В конце концов два месяца после выезда князя почти всякий слух о нем в Петербурге затих окончательно, а в доме Епанчиных «лед молчания» уже и не разбивался. Варвара Ардалионовна, впрочем, все-таки навещала девиц.
Чтобы закончить о всех этих слухах и известиях, прибавим и то, что у Епанчиных произошло к весне очень много переворотов, так что трудно было не забыть о князе, который и сам не давал, а может быть, и не хотел подать о себе вести. В продолжение зимы мало-помалу наконец решили отправиться на лето за границу, то есть Лизавета Прокофьевна с дочерьми; генералу, разумеется, нельзя было тратить время на «пустое развлечение». Решение состоялось по чрезвычайному и упорному настоянию девиц, совершенно убедившихся, что за границу их оттого не хотят везти, что у родителей беспрерывная забота выдать их замуж и искать им женихов. Может быть, и родители убедились наконец, что женихи могут встретиться и за границей и что поездка на одно лето не только ничего не может расстроить, но, пожалуй, еще даже «может способствовать». Здесь кстати упомянуть, что бывший в проекте брак Афанасия Ивановича Тоцкого и старшей Епанчиной совсем расстроился и формальное предложение его вовсе не состоялось! Случилось это как-то само собой, без больших разговоров и безо всякой семейной борьбы. Со времени отъезда князя всё вдруг затихло с обеих сторон. Вот и это обстоятельство вошло отчасти в число причин тогдашнего тяжелого настроения в семействе Епанчиных, хотя генеральша и высказала тогда же, что она теперь рада «обеими руками перекреститься». Генерал хотя и был в опале и чувствовал, что сам виноват, но все-таки надолго надулся; жаль ему было Афанасия Ивановича: «такое состояние и ловкий такой человек!». Недолго спустя генерал узнал, что Афанасий Иванович пленился одною заезжею француженкой высшего общества, маркизой и легитимисткой*, что брак состоится и что Афанасия Ивановича увезут в Париж, а потом куда-то в Бретань. «Ну, с француженкой пропадет», — решил генерал.
А Епанчины готовились к лету выехать. И вдруг произошло обстоятельство, которое опять всё переменило по-новому, и поездка опять была отложена, к величайшей радости генерала и генеральши. В Петербург пожаловал из Москвы один князь, князь Щ., известный, впрочем, человек, и известный с весьма и весьма хорошей точки. Это был один из тех людей, или даже, можно сказать, деятелей последнего времени, честных, скромных, которые искренно и сознательно желают полезного, всегда работают и отличаются тем редким и счастливым качеством, что всегда находят работу. Не выставляясь напоказ, избегая ожесточения и празднословия партий, не считая себя в числе первых, князь понял, однако, многое из совершающегося в последнее время весьма основательно. Он прежде служил, потом стал принимать участие в земской деятельности. Кроме того, был полезным корреспондентом нескольких русских ученых обществ. Сообща с одним знакомым техником он способствовал, собранными сведениями и изысканиями, более верному направлению одной из важнейших проектированных железных дорог. Ему было лет тридцать пять. Человек он был «самого высшего света» и, кроме того, с состоянием «хорошим, серьезным, неоспоримым», как отозвался генерал, имевший случай по одному довольно серьезному делу сойтись и познакомиться с князем у графа, своего начальника. Князь, из некоторого особенного любопытства, никогда не избегал знакомства с русскими «деловыми людьми». Случилось, что князь познакомился и с семейством генерала. Аделаида Ивановна, средняя из трех сестер, произвела на него довольно сильное впечатление. К весне князь объяснился. Аделаиде он очень понравился, понравился и Лизавете Прокофьевне. Генерал был очень рад. Само собою разумеется, поездка была отложена. Свадьба назначалась весной.
Поездка, впрочем, могла бы и к средине и к концу лета состояться, хотя бы только в виде прогулки на месяц или на два Лизаветы Прокофьевны с двумя оставшимися при ней дочерьми, чтобы рассеять грусть по оставившей их Аделаиде. Но произошло опять нечто новое: уже в конце весны (свадьба Аделаиды несколько замедлилась и была отложена до средины лета) князь Щ. ввел в дом Епанчиных одного из своих дальних родственников, довольно хорошо, впрочем, ему знакомого. Это был некто Евгений Павлович Р., человек еще молодой, лет двадцати восьми, флигель-адъютант*, писаный красавец собой, «знатного рода», человек остроумный, блестящий, «новый», «чрезмерного образования» и — какого-то уж слишком неслыханного богатства. Насчет этого последнего пункта генерал был всегда осторожен. Он сделал справки: «действительно, что-то такое оказывается — хотя, впрочем, надо еще проверить». Этот молодой и с «будущностью» флигель-адъютант был сильно возвышен отзывом старухи Белоконской из Москвы. Одна только слава за ним была несколько щекотливая: несколько связей и, как уверяли, «побед» над какими-то несчастными сердцами. Увидев Аглаю, он стал необыкновенно усидчив в доме Епанчиных. Правда, ничего еще не было сказано, даже намеков никаких не было сделано; но родителям все-таки казалось, что нечего этим летом думать о заграничной поездке. Сама Аглая, может быть, была и другого мнения.