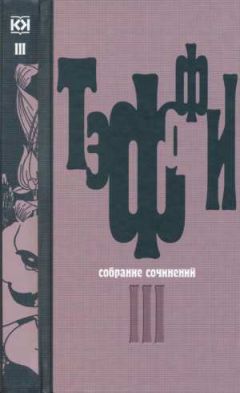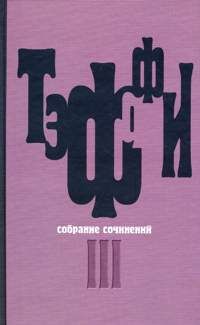О валюте писать не стану.
И без того меня укоряют, что затрагиваю слишком мрачные темы.
Одно скажу:
– Не пожелай!
Большое искусство хорошо писать. Но также немалое и хорошо читать.
В одной и той же книге, повести, статье различные читатели найдут и прочтут совершенно различные вещи.
Так я, прочтя статью Уэллса «Россия, какою я ее увидел», получила впечатление несколько отличное от тех, которыми уже поделились с нами прочитавшие ее прежде меня. И я очень довольна, что прочла ее сама.
Мы привыкли к рассказам очевидцев или их приятелей, привыкли к паническому стилю. «Вырвавшийся из ада» помещик или дантист редко сумеет рассказать то, что нужно. Его честолюбию нужно главным образом напугать – вот, мол, я какие штуки знал и видал, не то что вы!
Был у меня как-то разговор с господином, получившим одним из первых письмо, подробно описывающее крымскую эвакуацию. Письма при себе у господина не было, и он говорил:
– Это было ужасно!
– Ну расскажите, что же собственно вам пишут! – просила я.
– Ах, вы себе не можете этого представить!
– Ну все-таки, что же именно?
– Этого описать совершенно невозможно.
– Да расскажите хоть что-нибудь!
– Это такой ужас! Такой ужас! Без слез читать нельзя!
– Очень страшно было?
– Я вам говорю, что это сплошной ужас! Ничего подобного еще человечество не испытывало.
– Ну все-таки – что же именно?
– Это невозможно описать! Это такой ужас! Это совершенно не поддается описанию!
– Ах ты, Господи! Ну что же – резали всех, жгли, топили? Ну, скажите же хоть что-нибудь.
– Ну что я вам скажу, когда ум человеческий не может себе ничего представить. Буквально не может! Это такой ужас! Это… Это…
Так я ни с чем и отъехала.
Читая статьи Уэллса, я знакомилась с фактами советской жизни, изложенными спокойным языком очень хорошего писателя, «описанию которого все поддается». Читала я, конечно, не обращая внимания на его выводы, их я сумела сделать и сама.
Я вовсе не собиралась писать столь модный сейчас «Мой ответ Уэллсу» – он, кстати сказать, ни о чем и не спрашивает. Я только благодарю его за то, что он, будучи большевистским дорогим гостем и чувствуя душевное тяготение к своим хозяевам, все-таки глазами хорошего писателя увидел все, как оно есть, и честно рассказал.
И мы узнали, что ему, дорогому гостю, несмотря на все старания хозяев, подавали вместо хлеба «une pâte visqueuse, de la consistance de l'argile et immangeable»[78]. И узнали, что ему, дорогому гостю, старый профессор не дал попробовать своего пойла, отвратительный вид которого заинтересовал Уэллса.
– Если хотите попробовать, вам дадут на кухне!
Та ложка бурды, которую из любопытства хлебнул бы английский писатель, составляла слишком значительную часть в пищевом довольствии русского профессора, чтоб можно было так, здорово живешь, пожертвовать ею.
Узнали, что кроме спичек никакого товара в Петербурге нет, что, несмотря на все свое желание быть прилично одетыми для встречи дорогого гостя, русские писатели были в лохмотьях и что сытно ест только Шаляпин, сохранивший прекрасное настроение, и что жена Горького «Андреевна» играет Дездемону.
Город пуст и полуразрушен. На широкой реке – ни одной лодки. На заглохших улицах ни одного пешехода. Изредка пробежит фигура в лохмотьях с кульком в руках – тащит продавать рубище тех, кто сидит дома и выйти уже не может.
Уэллс честен. Он не видел там смеющихся розовых и жизнерадостных лиц, которые описывали многие иностранные большевистские аматеры.
Все бледны, истощены, больны смертельно. Вынесут ли новую зиму?
Многое у большевиков Уэллсу нравится. Ставит им в заслугу, что сумели быстро справиться с грабежами.
«Грабеж умер, приставленный спиной к стене в 1918 году».
Но…
«У матроса, служившего нам курьером во время путешествия в Москву, оказался очаровательный серебряный чайничек, вероятно, составлявший когда-то украшение салона. Теперь этот чайничек, каким-то образом, вполне законно из предмета частной собственности перешел в собственность правительства».
Вполне законно? Уэллс сконфужен.
А это очень просто, товарищ Уэллс. Грабеж из кустарного промысла перешел в правительственную организацию. Вполне законно – ваше умозаключение верно. Кушайте на здоровье, ни в чем не сомневаясь.
Кроме того, Уэллсу нравится, что в Чрезвычайках расстреливают не только контрреволюционеров, но также и разбойников.
– Это вносит приятное разнообразие, не правда ли? – в скуку заплечных дел мастерства.
Интересна беседа Уэллса с Лениным (Сундэй Экспресс).
«Мне хотелось узнать, в какой степени Ленин отдает себе отчет в вымирании русских городов и как он к нему относится.
Города, конечно, уменьшатся, они будут другими, совсем другими.
Я указал ему, что такая перемена предполагает колоссальную работу. Большая часть города должна будет исчезнуть.
Ленин благодушно(!) с этим согласился. Я думаю, ему приятно было найти кого-то, кто понимает необходимые последствия коммунизма…»
И вот как «понимающий последствия коммунизма» заканчивает одну из своих статей!
«Марксистские теории привели к диктатуре сознательного пролетариата. Более того – они обещали, что все изменится и на земле, и на небе.
Но в России мы могли дать себе отчет в том, что старая земля все та же, покрытая грудами развалин и обломками старых машин старого режима.
Мы могли дать себе отчет, что коммунизм управляет отважно, но во многих случаях похож на фокусника, который забыл необходимые аксессуары и не может, когда следует, вытащить из своей шляпы ни кролика, ни голубя».
Так. Ни кролика, ни голубя. Но иногда неожиданно для дорогих гостей из шляпы лукаво вылезает краденый чайник…
«Откровенность Ленина временами озадачивает его единомышленников. За последнее время он совершенно отказался от попытки доказать, что русская революция есть что-либо иное, кроме ведения безграничного эксперимента».
Вылез, таки вылез краденый чайник!
Так.
Вот за что я очень благодарна Уэллсу. И рада, что все это у него «поддалось описанию».
А чтоб сделать надлежащие выводы, он слишком благовоспитан и благодарен за гостеприимство.
Выводы сделаем мы сами.
Очень много писалось о том, что надо беречь русский язык, обращаться с ним осторожно, не портить, не искажать, не вводить новшества.
Призыв этот действует. Все стараются. Многие теперь только и делают, что берегут русский язык. Прислушиваются, поправляют и учат.
– Как вы сказали? «Семь раз примерь, а один отрежь»? Это абсолютно неправильно! Раз человек меряет семь раз, то ясно, что вид надо употребить многократный. Семь раз при-ме-ри-вай, а не примерь.
– Что? – возмущается другой. – Вы сказали – «вынь да положь»? Что это за «положь»? От глагола «положить» повелительное наклонение будет «положи», а не «положь». Как можно так портить язык, который мы должны беречь, как зеницу ока!
– Как вы сказали? Надеюсь, я ослышался. Вы сказали: «я иду за вином»? Значит, вино идет впереди вас, а вы за ним следуете? Иначе вы бы сказали: «я иду по вино». Как говорят – «я иду по воду», – и так и следует говорить.
Давят, сушат, душат!
Думал ли кто-нибудь, живя в России, правильно ли он говорит? Приходило ли кому-нибудь в голову сомневаться в законности своего произношения или оборота фразы?
Огромная Россия сочетала сотни наречий, тысячи акцентов. Каждая губерния, каждый уезд окали, цокали, гакали по-своему. Тот сухой академический язык, который рекомендуется нам сейчас, существовал лишь в литературе, когда автор вел речь от себя, потому что как только начинал писать языком живым, на котором люди говорят, сейчас перед читателем выявлялась личность, от которой слова шли. Под безличным, гладким литературным языком автор прячется, отрекается от себя, говорит «объективно».
«Чуден Днепр при тихой погоде»…
Это не значит: «я нахожу, что Днепр чуден». Это значит, что он чуден, и этот факт я сообщаю.
Если же вы прочтете восхваление Днепру, выраженное разговорным языком, то сразу увидите, кто говорит.
– Ну и Днепр! Ну и речища!.. – говорит помещик, исправник, купец.
– Днепр в хорошую погоду – это сама прелесть!.. – скажет провинциальная барышня.
Если бы пришел к вам приятель шофер или репортер, человек деловой и нормальный, сел, закурил папиросу и сказал:
– Вспомнился сегодня Днепр. Какая чудесная река, особенно при тихой погоде.
Ладно.
А если бы он сказал:
– Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит, и т. д.
Не ладно! Подумали бы, что он спятил, даже если бы Гоголя не читали и могли допустить, что он сам так вдохновился.