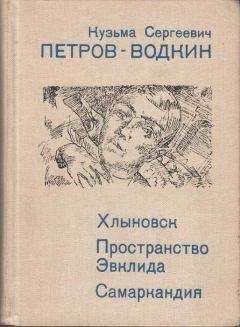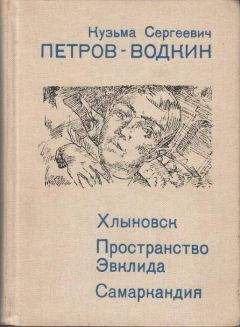Это было уместно для наэлектризованного возбуждением человека, — здесь безумие вырывалось в нормальные формы творчества. «Да будь же ты всегда на этой высоте восприятий», — хотелось сказать мучимой недугом женщине.
Самонадеянные в системах излечений психиатры прописали больной камеру в доме для умалишенных со всеми привходящими воздействиями. Я возмущался этим решением и был убежден, что только перемена места, простые, не изолированные условия и возможность перегара воспалительного процесса путем нормального израсходования образов и фантазии привели бы в норму мозг в продолжение одной, двух недель. Не знаю, был ли я прав в моей уверенности, но мой приятель, супруг больной, был слишком благонамеренно настроен к медицине, да и побоялся рискнуть двумя неделями предлагаемой мною пробы, словом, результат психиатрической системы был печальный. Несчастная с первых же дней больничной обстановки начала буйствовать, на насилия отвечала насилиями; мозговой угар, потерявший нормальный творческий выход, еще глубже внедрился в организм и затянул на долгие месяцы болезнь…
В последнюю ночь скорого поезда я себя почувствовал невероятно измотанным и простуженным. Приятель предложил мне уснуть. Зная, что больная все равно меня растормошит в моем купе, я выдумал необходимость сойти на ближайшей остановке; сяду в следующий за этим курьерский поезд, и мы встретимся в Петербурге.
— Ах, вы, — сказала она, — меня считаете больной, а сами совсем расклеились! — Обещала телеграмм больше не посылать, попытаться уснуть и быть бодрой и свежей в столице.
Проснулся я перед Любанью. Вздорный каприз осенил к этому времени больную. Она находилась в соседнем купе и упрашивала генерала снабдить ее мундиром. Старик долго не знал, как к этому отнестись. После моих условных знаков кончилось дело тем, что он вскрыл свой чемодан и вручил молодой женщине костюм. Довольная, как ребенок игрушкой, она пошла к себе и вышла к нам в сиянии эполет и орденов. Отведя меня в сторону, она спросила: не очень ли глупым нахожу я то, что она сделала. Я находил это простым кокетством, и она на этом успокоилась. Сходя на Николаевском вокзале, она нарочно раскрыла свою ротонду, чтоб блеснуть мундиром, озадачивая растерявшихся жандармов и полицию в смысле отдания чести.
В своей городской квартире больная потеряла оживленность, ее состояние стало более прозаическим. Ее занимало и приведение квартиры в порядок, и новый план в распределении комнат. Здесь, почти впервые за разлуку с ребенком, она вспомнила о нем. Запросила телеграммой бабушку, с которой осталась новорожденная. Эти признаки я считал хорошими, но…
Три дня спустя карета везла нас на Удельную. Больная, видимо, волновалась, она переиначивала цель поездки, старалась развлечься впечатлениями от улиц и прохожих. Я себя чувствовал дрянно, как заговорщик, задумавший дурное против своего друга. В приемной лечебницы вышла к нам заведующая, представительная седая дама. Надо сказать, входы, приемная и предбольничные помещения были устроены так, чтоб ничем не напомнить печальное учреждение, — они были парадны и довольно уютны.
Заведующая обратилась к больной с вопросом: откуда она приехала? Больная сделала грустное, страдающее лицо и заявила, что она приехала непосредственно из Порт-Артура.
— Что там?
— Там ужасно… Смерти и смерти бесконечные… На ее руках умирали несчастные защитники крепости… Ее сердце переполнено их страданиями, — и слезы показались на ее глазах.
Меня кольнула бестактность выдумки, — бедная, казалось, сама себе выхлопатывала смирительную рубашку.
Что она знала о своей выдумке, я в этом не сомневался, но зачем здесь, с незнакомой, она начала игру? Заведующая и муж больной удалились.
Я спросил сидевшую с некоторой неловкостью против меня о том, зачем она выдумала приезд из Порт-Артура, — и был не рад вопросу: я, единственный ее единомышленник, и вдруг уличил ее не в игре, а во лжи, которая была не нужна и просто вредна в этом месте.
Больная вскипела гневом, видно было, что и она сама ощутила бестактность своей выдумки. Я растерялся и едва-едва переключил взбудораженный гнев на милость. Было бы лучше, если бы я посмеялся над выдумкой, что-де ловко она одурачила седую представительную даму, но мне было не по себе; хотя я и не знал системы введения в палаты нервнобольных, но предчувствовал, что это сделается как-нибудь неожиданно, секретно от самой больной, и бестактно.
Муж, больная, заведующая и я пошли комнатами и коридорами предбольничного здания. В конце одного из переходов ведущая нас открыла дверь, пропустила в нее больную, спешно, воровски вошла за ней следом и защелкнулась изнутри ключом.
Я себя почувствовал не менее одураченным, ткнувшимся вплотную в закрытую перед моим носом дверь.
А за дверью уже раздался истерический крик протеста, верно, уже были заготовлены крепкие руки служителей для начала отрезвлений фантазии моей бедной спутницы…
Глава шестнадцатая
ДОРОГА В ИТАЛИЮ
Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…
Гомер
С младенческих сказок волновало меня четырехбуквие — море!
С изучением географии, когда глобус земли нарисовал мне две трети шара океанов, когда синими жилками реки потянулись в родную синеву морей, тогда еще ярче стал для меня образ «огромной воды». Море в моих представлениях было выходом, уходом с земли.
Ручей, река, море и океан, как один целый аккорд, противопоставились мною земле-грунту с профилями гор, пропастей, металлических глубин и огня.
В порту Одессы отыскал я пароход, которому, казалось бы, и на Волге впору захлебнуться, но бравая «Стура» вызвалась доставить меня в Италию. Пахла «Стура» итальянской улочкой: второсортным оливковым маслом, пармезанными макаронами и кьянти. На ее борту были веселые, добрые ребята — от кочегара до капитана. «Стура» везла на себе всякую всячину в мешках, в тюках и в бочках.
На палубе, с цыганской живописностью, умещались группы людей в пестрых костюмах и с тряпьем постелей. Десятка три овец, скученных на корме, дополняли палубную тесноту, говор и запах.
В дыры кают втиснуты были разноязычные пассажиры, проехавшие через Россию, нажившиеся в ней или обездоленные. Не очень видный инженер — француз с Урала, коммивояжер — грек, молодой болгарин — ученый, размышляющий турок с женой, закутанной поперек и накрест, не выпускаемой из каюты, неизбежный, очевидно, на всех пароходах миссионер, исключительно осведомленный о всех язычниках мира и обладавший всеми их языками, и два-три некто, которыми можно заткнуть любую бытовую необходимость.
Удовольствие очутиться в музыке чужих языков большое, когда смысловое значение сосредоточено полностью в звуке, в интонациях, в гримасах и в жестах: «р, ш, ч», носовые «н», придыхательные «х, г», варьируемые с гласными, дают полную картину схемы языка. Короткие междометия, связывающие понятия, передают сущность излагаемого говорящим чувства.
Тон речи и размер предложений дают либо певучую мелодийность, либо резкое стаккато языку.
Внедрение в чужой язык происходило для меня довольно успешно — не по книгам, а по натуре. Незаметно, как островки, среди звуков начинали, бывало, выныривать смысловые значения, — начинаешь входить в язык, конечно, по-детски уродуешь произношение, но слова растут количественно, смысл их упрочняется с каждым днем.
Ветер был лобовой — южный. Черное море оправдывало свое название: гребни волн, блестевшие от солнца, были черны в их заворотах, как чернила.
«Стура» ныряла носом, поскрипывала кузовом, отдаляла меня от дома.
Замкнутость и скученность на небольшом жилищном пространстве, среди безбрежной поверхности моря, производит на первый раз особенное впечатление захватывающей непрочности.
Архитектура парохода, определяющая положение при изменениях горизонта, двоит видимость: установишься на мачты, приняв их за вертикаль, — горизонт моря начинает качаться, установишься на горизонт — пароход ковыляет, как пьяный. Установишься на себя — и заспиралишь собственным телом, отыскивая ось движения, на которую бы опереться и которой бы определить точность своих восприятий…
Здесь сгоряча, но я, кажется, решил, что всякое, хотя бы и искусственное нарушение покоя характеризует хотя бы отдаленнейшим образом, хотя бы намеком — движение планетарное. Может быть, и не так уже наивно думал я в первой моей юности, что пьяный человек, теряя управление телом, отдается на волю космических движений и в этом, полагал я, удовольствие от наркотики для прибегающих к ней, да и сон, — спрашивал я себя, — не играет ли такую же роль.
Что наши чувства, натасканные приспособлением к покою, очень извращенно воспринимают видимость, — это не было для меня откровением, но меня мутил вопрос о том, как же выбраться из этой рутины. Я старался вообразить себя в некотором пространстве, под действием равнодействующих движений и у меня вызывалось искусственное головокружение.