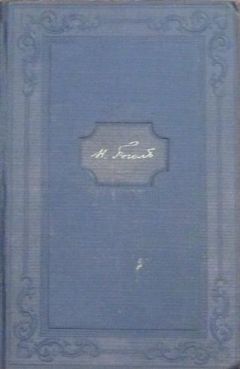Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд. Дубовый ли он, или березовый, мне нет дела; но в нем, милостивые государи, восемь окошек! восемь окошек в ряд, прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил и которое городничий называет озером! Один только он окрашен цветом гранита: прочие все домы в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярские, приправивши луком, не съели, что было как нарочно во время поста, и крыша осталась некрашенною. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, оттого что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы, или что-нибудь съестное, что́, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на две половины: в одной присутствие, в другой арестантская. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты чистые, выбеленные: одна передняя для просителей; в другой стол, убранный чернильными пятнами. На нем зерцало. Четыре стула дубовые с высокими спинками; возле стен сундуки, кованные железом, в которых сохранялись кипы поветовой ябеды. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья довольно полный человек, хотя несколько тонее Ивана Никифоровича, с доброю миною, в замасленном халате, с трубкою и чашкою чаю, разговаривал с подсудком. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак судья разговаривал с подсудком. Босая девка держала в стороне поднос с чашками.
В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и унывным тоном, что сам подсудимый заснул бы слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор.
„Я нарочно старался узнать“, говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки: „каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд, года два тому назад. Что ж? вдруг испортился совсем. Начал петь бог знает что. Чем далее хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, хоть выбрось! А ведь самый вздор! это вот отчего делается: под горлышком делается бобон, меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокофьевич, и именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом: приезжаю я к нему…“
„Прикажете, Демьян Демьянович, читать другое?“ прервал секретарь, уже несколько минут как окончивший чтение.
„А вы уже прочитали? Представьте, как скоро! Я и не услышал ничего! Да где ж оно? дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас?“
„Дело козака Бокитька о краденой корове.“
„Хорошо, читайте! Да, так приезжаю я к нему… Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, единственный! Да, не нашего балыка, которым“, при этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, „которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал; прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потом выпил я водки персиковой, настоенной на золототысячник. Была и шафранная; но шафранной, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить… А! слыхом слыхать, видом видать…“ вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича.
„Бог в помощь! желаю здравствовать!“ произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны с свойственною ему одному приятностию. Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением! Тонкости такой я нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел, как на должное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда было у него знаком большого удовольствия.
„Чем прикажете потчивать вас, Иван Иванович?“ спросил он. „Не прикажете ли чашку чаю?“
„Нет, весьма благодарю“, отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.
„Сделайте милость, одну чашечку!“ повторил судья.
„Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством!“ отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.
„Одну чашку“, повторил судья.
„Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович!“ При этом Иван Иванович поклонился и сел.
„Чашечку?“
„Уж так и быть, разве чашечку!“ произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу.
Господи боже! какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки!
„Не прикажете ли еще чашечку?“
„Покорно благодарствую“, отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь.
„Сделайте одолжение, Иван Иванович!“
„Не могу. Весьма благодарен.“ При этом Иван Иванович поклонился и сел.
„Иван Иванович! сделайте дружбу, одну чашечку!“
„Нет, весьма обязан за угощение.“ Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел.
„Только чашечку! одну чашечку!“
Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку.
Фу ты пропасть! как может, как найдется человек поддержать свое достоинство!
„Я, Демьян Демьянович“, говорил Иван Иванович, допивая последний глоток: „я к вам имею необходимое дело: я подаю позов.“ При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. „Позов на врага своего, на заклятого врага.“
„На кого же это?“
„На Ивана Никифоровича Довгочхуна.“
При этих словах судья чуть не упал со стула. „Что вы говорите!“ произнес он, всплеснув руками: „Иван Иванович! вы ли это?“
„Видите сами, что я.“
„Господь с вами и все святые! Как! вы! Иван Иванович! стали неприятелем Ивану Никифоровичу! Ваши ли это уста говорят? повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?…“
„Что ж тут невероятного. Я не могу смотреть на него; он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою.“
„Пресвятая троица! как же мне теперь уверить матушку! А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит: вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья, так друзья! то-то приятели! то-то достойные люди! — Вот тебе и приятели! Расскажите, за что же это? как?“
„Это дело деликатное, Демьян Демьянович! на словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны, здесь приличнее.“
„Прочитайте, Тарас Тихонович!“ сказал судья, оборотившись к секретарю.
Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкают все секретари по поветовым судам, с помощию двух пальцев, начал читать:
„От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана Иванова сына Перерепенка прошение; а о чем, тому следуют пункты:
1) Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван Никифоров, сын Довгочхун, сего 1810 года Июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина моего и фамилии. Оный дворянин и сам притом гнусного вида, характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами!“
Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя: „Что́ за бойкое перо! Господи боже! как пишет этот человек!“
Иван Иванович просил читать далее и Тарас Тихонович продолжал:
„Оный дворянин, Иван Никифоров сын Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно гусаком, тогда как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви Трех Святителей, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. Гусак же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в Семинарии, достоверно известно. Но оный злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для чего иного, как чтобы нанесть смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня оным гнусным словом.
2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании, блаженной памяти Ивана Онисиева сына Перерепенка, собственность, тем, что в противность всяким законам перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду; ибо оный хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей; ибо известно, что всякой человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиный, для приличного дела. При таком противузаконном действии, две передние сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего, блаженной памяти Ивана Онисиева сына Перерепенка, начинавшуюся от амбара и прямою линией до самого того места, где бабы моют горшки.