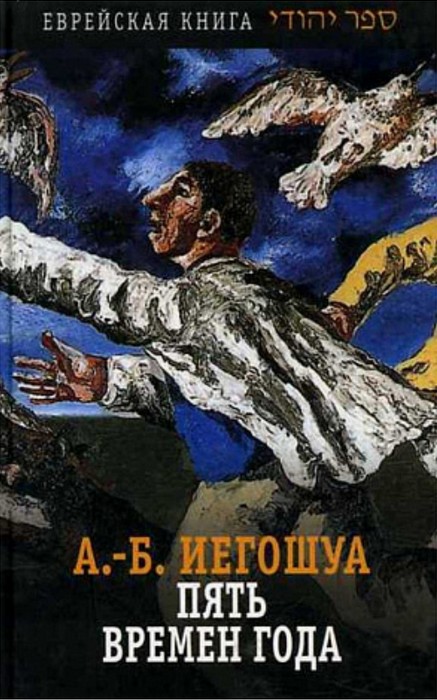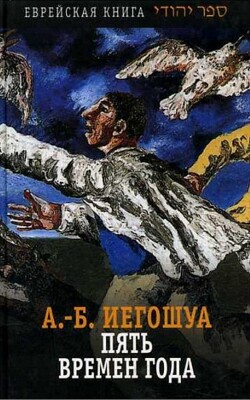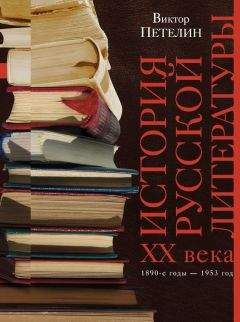рассуждать — вслух, с самим собой, как делал это в последние месяцы у постели больной жены: «Надо поесть. Так нельзя. Их завтрак вы уже прозевали. Я сейчас принесу кофе и булочки». И тут же, не откладывая, спустился вниз, объяснил старухе с помощью энергичной жестикуляции и нескольких английских слов, произнесенных на немецкий лад, что ему нужен кофейник с горячим кофе, выбежал на улицу, купил булочки и пирожки, поставил все это на поднос и сам принес в номер, но увидел, что она вновь уснула, и стал энергично поднимать жалюзи, открывать ставни и даже слегка приоткрыл окна, чтобы впустить немного свежего воздуха в надежде ее разбудить.
И она действительно проснулась, против воли и без желания, и он помог ей подняться, удивившись, какая она легкая, а как только за ней закрылась дверь ванной комнаты, поспешил снять одеяло И потрогать простыню — как он и ожидал, она была влажной, и липкой, и даже слегка мокрой, и он быстро поднял ее и перевернул. За последний год он приобрел такой навык в быстрой смене простынь, что способен был перестелить простыни, даже если жена при этом оставалась в кровати. Он немного убрал по своему разумению комнату, все время прислушиваясь к тишине в ванной из опасения, что она там погрузится в новый и опасный сон. Однако в конце концов дверь открылась, и она вышла оттуда, умывшаяся и подкрашенная, и он опять поразился той тихой интимности, которая установилась между ними меньше чем за сутки — как между многолетними супругами. Неожиданная мысль пришла ему в голову — не был ли весь этот ее долгий сон просто уловкой, призванной заставить его немного поухаживать за ней? Он поставил перед ней поднос, и она принялась есть и пить, он налил и себе чашку кофе и выпил с булочкой, пока она, слабая и смеющаяся над своей слабостью, заставляла себя есть, впервые глядя на него не как на порхающую вокруг тень. «Что вы делали все это время?», — «Так, гулял, — сказал он, — даже наткнулся тут поблизости на Берлинскую стену и успел в ней разочароваться». — «Да нет, ее нужно смотреть не здесь, — перебила она его. — Нужно пойти к Бранденбургским воротам, — там она больше, впечатляет, там видна граница между двумя зонами». Он рассказал ей про снег, о котором о на даже не подозревала. «Берлин весь белый, — сказал он. — Та парижская буря, которая меня преследует, добралась наконец сюда, но немцев это, кажется, беспокоит куда меньше, чем французов». — «Жалко, что я не видела метель», — сказала она, заставив его подумать, не принести ли и ей таз со снегом, чтобы она могла поиграть. Эта мысль позабавила его, но вслух он сказал только; «Не стоит спешить на улицу, лучше дать вашей ноге отдохнуть, чтобы вы могли вечером пойти в оперу». Приподнявшись на подушке, раскрасневшаяся от сна, с раскачивающимися в ушах сережками, от которых Молхо никак не мог оторвать взгляда, потому что его жена никогда таких не носила, она внимательно посмотрела на него, как будто, несмотря на всех своих многочисленных родственников, не привыкла к такой заботе и теперь старалась понять, чего он от нее хочет, а потом послушно надкусила булочку, как ребенок, потерявший аппетит.
«Может, измерить ей температуру? — подумал он. — А вдруг эта ее слабость — признак более серьезного расстройства?» За окном снова проносился густой серый снег, и в тишине слышался ровный шум радиатора возле кровати, как будто они летели в самолете, снаружи становилось все темнее, снежная буря затянула воздух мутным молоком, Молхо сидел в кресле, тоже чувствуя себя вялым и отяжелевшим, и пытался разговорить ее, расспросить о девочке или хотя бы об этом пансионе — почему она выбрала именно его? была ли она тут с кем-то другим в таком же оперном туре? может быть, даже с покойным мужем? — но у нее, казалось, не было сил говорить, ее немногословные ответы звучали так слабо, как будто на нее уже наваливалась очередная волна тяжелой дремоты, и тогда он стал рассказывать ей о себе, точнее — о своей покойной жене, которая родилась здесь, и почему она никогда не хотела сюда приезжать, но она словно давно уже знала все эти рассуждения, потому что задремала прямо на середине его фразы, — видимо, ее организм был так чужд наркотикам, что, даже две маленькие таблетки глубоко его потрясли, — и он осторожно вытащил из-под ее слабых рук поднос с наполовину съеденной булочкой и почти полной чашкой кофе. Она вздрогнула, сдвинулась глубже под одеяло и положила голову на подушку. «Я чувствую себя немного виноватым», — негромко проговорил он, надеясь вызвать ее сочувствие, но она никак не отреагировала на его слова, голова ее неподвижно лежала на подушке, он не мог понять, слышит ли она его вообще, как вдруг на ее губах появилась слабая и горькая улыбка. «Только немного?» — спросила она и снова умолкла. Он испугался и, запинаясь, сказал: «Я не знал, что эта таблетка так на вас повлияет, ведь это не какое-нибудь специфическое лекарство, его продавали тут без рецепта, в открытом доступе, моя жена…» — но волна сна уже накрыла ее с головой, ее дыхание стало тяжелым и медленным, и Молхо почувствовал тревогу: если она будет и дальше спать подобным образом, он и впрямь не сможет завтра улететь. Он решил больше не тревожить ее, чтобы дать ей ощущение домашнего-тепла и безопасности. Что доделаешь? Ее организм должен освободиться от этого яда. Даже снежная буря ее не взволновала.
Он вытянул ноги и откинулся на сцинку кресла, — глядя на беспорядочно мечущиеся за окном снежные хлопья, которые выглядели так, будто их то и дело подбрасывали с земли в мутное небо, и напоминали не столько замерзшую ледяными лепестками воду, сколько сгустки древних белков, остатки первичного вещества жизни, — и про себя подумал: «Вот так я буду теперь сидеть здесь, так же, как я сидел тогда возле той кровати, здесь даже тише, чем на Кармеле, из-за этих немецких двойных окон». Ему вдруг припомнилось, как в последний месяц перед смертью жены он сидел порой рядом с ней, часами не произнося ни слова, так что она иногда даже начинала его умолять: «Ну расскажи хоть что-нибудь, ты ведь бываешь среди людей», а он отвечал: «Мне не о чем рассказывать, я думаю только о тебе» — и это была сущая правда. И вот теперь он сидел возле кровати другой женщины,