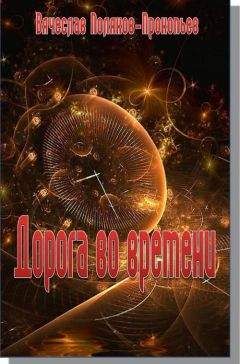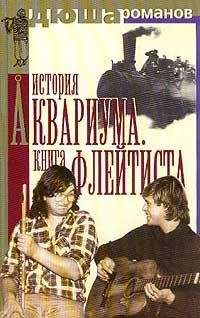Пока он думал о прошлом, стемнело. Огляделся: Мулатки рядом не было. "Завтра придет", - подумал Николай и поймал себя на мысли, что подобная уверенность всегда имела место в его отношениях с женщинами. Он не препятствовал уходам, не догонял. И, как потом оказывалось, ошибался, - они никогда не возвращались. Почему-то уходили, оставляя все, чем владели по его милости, голыми, как из чумного дома. Как будто за месяцы общения с ним становились целомудренными, хоть нимб надевай вместо шляпки. Это было самое удивительное в его разводных историях. Но ведь случай с Мулаткой - особый. Она придет завтра. Придет, - он чувствовал, что держит ее крепко.
Мулатка исключение. Она не избалована жизнью, она знает цену вниманию, она будет обожать его, своего благодетеля. Она уже поняла, что он неповторим... Даже без всяких атрибутов материального благополучия. Еще есть время, он дождется, когда она сама обратится к нему. Это будет признанием победы, равносильно падению в объятья, он великодушно подставит руки...
На следующее утро Мулатка не пришла. Николай весь день ждал, что она вот-вот появится: сначала разденется, потом повяжется косынкой, словно зашториваясь от назойливого мира, и станет читать свою книгу... Мало ли что, ездила в город, развлеклась, сделала покупки, приехала поздно. Так он себя успокаивал, возвращаясь вечером домой. Подспудно же накатывало мерзкое ощущение, испытанное однажды в хищном отрочестве, после, казалось бы, удачной "рыбалки" за городом... Глухой, удавленный взрыв дорогостоящей толовой шашки - и две дюжины крупных сазанов белобрюхо поднялись со дна, чтобы стать его добычей... Тогда деревенские мальчишки украли у него весь мешок с богатым уловом, пока он блаженно купался, отдыхая после рискованных трудов. Помнится, блестя мокрыми мускулами, толкая рядом велосипед с проколотыми шинами, он возвращался лунной дорогой, от обиды и бессилия по-звериному воя. Кляня себя за нерасчетливость, недальновидность, он думал, что, вернись все обратно, добровольно отдал бы каждому из тех сопливых пацанов по рыбине, как дань, только бы они не лишали его рыбацкой гордости... И сейчас, предчувствуя непоправимое, он готов был отказаться от многого, лишь бы Мулатка осталась еще на пару дней в этом проклятом, вонючем поселке на краю грязной лужи под названием море!...
Да, она была особой вчера. Он думал, что это показатель ее готовности к покорению. Но видимо, это было всего лишь прощание или - ожидание чуда. От кого: от жизни? От него? От неспособного на чудо?... От бесполезной пчелы, трутня, потребителя медовых чудес?...
Он шел и выбрасывал, как губительный балласт с терпящего крушение воздушного шара, свои маленькие победы, которые копил все эти дни. Отказываясь от ведущих ролей - покорителя, приручателя, егеря, астронома... Он переставал быть дарителем приманки - он просил дара быть великодушным. И - берущими, торопливыми паучьими движениями пытаясь повторить творение небесного шелкопряда, он панически заворачивался в кокон недавних воспоминаний, в тот круг случайностей, начавшийся несколько дней назад на этом злополучном пляже, силясь вернуться в исходную точку. Он просил сотворить все сначала - у того, кто беспощадно наказывал его за одни только мысли, не веря позднему раскаянию, рожденному в страхе.
3. Моллинезия
...Он перестал клясть, клясться и молиться. Он снова гордый. Теперь все опять в его власти: ему не нужен добрый рок, достаточного худого шанса.
"Олей звали мою негритяночку, Олей. Фамилию не ведаю... Адрес, - зачем мне? - не узнавала. Я документов-то никогда не спрашиваю... Только город, на севере где-то... Точно, точно!... Сейчас спрошу у внучки, она помнит..."
Все, что удалось выведать у квартирной хозяйки, - имя Мулатки, название города на другом краю света, куда летает самолет из эвкалиптового Адлера. И еще то, что Мулатка полетела не сразу в этот то ли нефтяной, то ли золотой город, а через столицу, хотела проведать родных... Это уже кое-что, думал пляжный Шерлок Холмс, трясясь в душном вагоне электрички, членистым червяком ползущей вдоль каменистого берега, усыпанного голыми телами, как трупами на бесконечном поле сражения.
Состояние обманутости, наказанности прошло, вернее, переросло в иступленную решимость. Уткнувшись в заляпанное окно, рядовой художник, возможно, - с генами всего лишь маляра-оформителя, возомнивший себя осененным музой ваятелем, сосредоточенно выводил эскиз будущей картины: вздрагивая вместе с вагоном, стараясь не смотреть на серую гальку замусоренных пляжей, поеживаясь от мурашек, которые волнами расползались по спине и щекам, рисовал солнечными красками по зеленым волнам: он женится на Мулатке...
Как помарка в уголке картины - постоянная ноющая грудная боль... И если бы в области сердца... Назойливая ремарка, примечание без рифмы, серым, "простым" карандашом поверх солнечных красок: боль не в области сердца где-то под нижними ребрами...
Он уже смутно, как из сна, помнил, что было вчера. Наверняка, потому, что был сильно пьян в ночном кафе, сотворенном на манер караван-сарая: очаг в центре земляного двора, саклеобразные, плетеные из камыша кабины, столы распиленные вдоль гигантские деревья... Груша ртутной лампы, нелепого ночного солнца, слепящая, затмевающая космос, превращала видимый мир в царство теней, которые колыхались в потоках музыки, безображенной низкими частотами. На подиум, в числе прочих танцующих, выскочила белая девушка в воздушном платье из розовой вуали, с одуванчиком вместо головы. Поток света от ночного солнца - и вспыхнул одуванчик, растаяла вуаль. Спелое наливное яблоко с просвечивающими внутренностями... прожилки, выпуклости, впадинки, косточки, изюминки-сосочки...
Сразу за этим - встреча на темной аллее парка с пляжным весовщиком. "Римский расстрига" в белом костюме выглядел на удивление солидно в окружении таких же друзей, но голос был прежним - зловещим и устало-печальным:
- Ну что, сторож, проспал чернышку? - Кулак, блеснув перстнем, вынырнул из-за спины и больно воткнулся в солнечное сплетение. - Ни себе, ни людям, шакал. Собака на сене... - Еще раз блеснул перстень, еще раз стало больно.
Аэропорт, согласно сезону пик, встретил Николая отказом: билетов нет.
Железнодорожный вокзал обнадежил, усиливая решимость, пообещав билет на вечерний "северный" поезд. Время отправления - час заката. Это Николай подметил, присвоив совпадению символ границы между прошлым и будущим. Он продолжал мечтать.
Он уже не сможет жить, как прежде... Человек, до сих пор не нашедший себя в профессии, в увлечении, - он превратит свою жизнь со смуглой женщиной в искусство. Которому будет поклоняться, в котором будет творить...
Он успеет в город Мулатки до ее прилета туда из столицы. Он будет жить в аэропорту и встречать самолеты... Или, если такой вариант окажется неудачным, то пускай будет еще романтичней: он поселиться в том полярном городе, устроится на ночную работу. А днями будет бродить по осенним, в желтом листе берез и рыжей хвое лиственниц, а потом по заснеженным, улицам, и вглядываться в лица прохожих... Наконец, зимой он ее встретит, такую красивую и приметную на белом.
Их бескорыстный и нежный дуэт вылечит ее дикость, его благородная решимость, презирающая внешнюю суету и кривотолки, оградит ее от памяти детских страданий. Их броский союз, их заметность, будут стимулировать творчество отношений... У них вырастут красивые дети, - воспитание в особенной семье определит в них задатки нечванливого, здорового, первородного аристократизма...
Он уйдет из дешевого, подонного бизнеса, вновь станет физиком или лириком, - а может, и тем и другим, в нем этих слагаемых поровну. Защитит уже практически готовую, заброшенную пять лет назад, диссертацию. Вытащит из чулана пыльные холсты, примется за новые, докажет жизнеспособность своего направления, за которое был когда-то ошельмован. Нарисует смуглую звезду, ее траекторию...
Сверкнули зловеще бамперы, - скрипнул, зашипел, минорно запел горячий воздух привокзальной площади. Панический поросячий визг тормозов, переходящий в запретное шипение втирающейся в асфальт резины - "Тщ-щ-щ!...", жалобный стон черного железа, на секунду прижатого могучей инерцией к земле. Отрешаясь от выкриков и гримас таксиста, Николай прочел за приспущенным стеклом укоризненную грусть, исходящую из мрачных глубин заднего сиденья: отдельно - глаза, затем губы... Глаза и губы, по которым он, как художник, узнал...
Нет, никого он не узнал, чудес не бывает. И все же, безотчетно, проводил взглядом рванувшее с места сердитое авто, отметив натуральность затылка пассажира, не вальяжным хозяином, а сиротливой деталью врисованного в экран широкого овального окна.
Конечно, бред. Он сам, уже лет десять назад, видел этот развороченный пулей череп, когда сорвалась с петель, рухнула, разметывая со столов листки, расшатанная персоналом НИИ дверь. На одном из смятых бланков (обратная сторона финансовой ведомости) - "последнее слово", которое прыгающими буквами изобразил разжалованный в инженеры неудавшийся начальник отдела, прежде чем вставить в рот холодный ствол никелированного "макарова". Это было обращение к жене и дочке, на чью судьбу он, "никчемный" человек, покусился и оказался недостойным "и только поломал"... и прочие, типичные для подобного случая банальности.