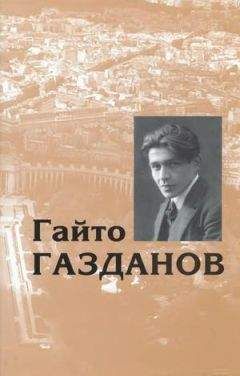Я лежал на берегу, передо мной было море, особенно гладкое в тот безветренный день, и к нему вплотную подходили красные, раскаленные сосны; воздух прозрачно дрожал над поверхностью пляжа, кричали цикады, по недалекой дороге изредка проезжали автомобили. Все, что было в моей жизни до этой минуты, казалось мне чрезвычайно далеким, почти не существовавшим, не оставалось ничего, кроме этого моря, этого, как всегда безоблачного и далекого неба. Я перевернулся со спины на живот и увидел обрывок газеты, который кто-то бросил здесь. Это был старый номер «Пари-Суар», смятый, порванный и наполовину втоптанный в песок, так что мне видны были только крупные буквы заголовка: «Странная история»…
И когда я прочел эти слова, передо мной сразу встал, с той мгновенностью, которая характернее всего для воспоминаний, связанных с каким-нибудь запахом, – последний день, которым закончились наиболее важные события в жизни Федорченки.
Это был дождливый и душный день, я проснулся с тем же ощущением беспричинной и непреодолимой тоски, с каким заснул, взглянул на портрет женщины, висевший на стене – и так интересовавший Сюзанну, – и долго смотрел на это лицо, которое казалось мне в то утро далеким и чужим, хотя я знал все его выражения, и все движения этих губ, и все изменения этих глаз; но в тот день даже это почти перестало существовать для меня. Я только что кончил одеваться, когда раздался звонок и вошла Сюзанна. Выражение ее лица было такое же тревожное и беспомощное, как все это время. Она была на последнем месяце беременности, ее живот сильно выдавался, физиономия ее стянулась и потускнела.
– Не очень ты хороша, моя милая, – сказал я. – Еще что-нибудь случилось, или ты просто пришла мне надоедать, как всегда?
– Я пришла тебе надоедать, как ты говоришь. Идем ко мне, мы вместе позавтракаем. Я не могу оставаться одна.
– А твой муж?
– Он спит, он вернулся только утром. Я не знаю, где он был.
Я пошел с ней. Я бы этого не сделал, если бы находился в своем нормальном состоянии, но тогда мне было все равно, куда идти и что делать. Она несколько оживилась, мы разговаривали о том, когда и как все это кончится. Сюзанна сказала мне, что после смерти Васильева она надеялась, что все станет по-прежнему, но улучшения не произошло. Она чувствовала все больше и больше с каждым днем, что человек, за которого она вышла замуж, уже не существует, вместо него – другой, еще сохраняющий физическое сходство с первым, но которого она не знает и не понимает. Она сказала это иначе.
– Я его не узнаю, иногда я думаю, что этого человека я никогда не видела. Знаешь?
– Так ты говоришь, что ты его не узнаешь? – я машинально повторил ее фразу, думая о другом. Мне казалось тогда, что я думал о другом; лежа на берегу моря, я легко восстановил свою тогдашнюю мысль, это было лицо Федорченки в кабаре и его удивительная, смертельная отвлеченность, – в сущности, то же самое, о чем говорила Сюзанна.
– Пойду-ка я его разбужу, – сказала она, вставая и направляясь к затворенной двери в его комнату. – Ты его увидишь, и ты сам мне скажешь, тот же ли это человек.
– Тот же самый, – ответил я, – только он в другом состоянии, вот и все.
Она потянула к себе дверь, дверь не поддавалась. – Вот! – с удивлением сказала она. – Что же это такое?
Она потянула сильнее, упершись одной рукой в стену, у меня было впечатление, что к двери, с той стороны, привязан какой-то груз. Наконец она с трудом отворилась – и в ту же секунду Сюзанна закричала таким животным и диким криком, что я вскочил со стула и бросился к ней.
На коротком и узком ремешке, туго обмотанном вокруг дверной ручки, полувисело, полусидело скорченное тело Федорченки. Ремешок глубоко врезался в его шею, лицо его было лиловато-багровым, и мертвые, открытые глаза прямо и слепо смотрели перед собой.
По лестнице уже поднимались люди, они стали звонить и стучаться в квартиру; я отворил им. Сюзанна, не переставая кричать, билась в судорогах на диване. Через некоторое время появились полицейские, потом пришли фельдшерицы в белом, которые увезли Сюзанну: у нее начались роды. Я должен был давать объяснения по поводу моего присутствия здесь. Консьерж рассказывал полицейскому инспектору, что жилец вернулся домой в шестом часу утра. Врач, присланный из комиссариата, заявил, что смерть произошла несколько часов тому назад. Мне удалось уйти только к вечеру. На дворе, не переставая, шел тот же душный и теплый дождь.
На следующее утро я поехал в больницу, где лежала Сюзанна. Она очень изменилась за одну ночь, на ее лице было необычное для нее – и новое для меня – выражение почти торжественного спокойствия. Она была неузнаваема, как будто она поняла какие-то необыкновенно значительные вещи, которых, конечно, не узнала бы никогда, если бы им не предшествовала эта непонятная трагедия и если бы не было этого трупа, так неловко и тяжело повисшего на ее двери. Волосы ее были аккуратно причесаны, золотой зуб блестел из-под приподнятой верхней губы.
– У меня мальчик, – сказала она. – Какая драма, не правда ли? По крайней мере, теперь можно сказать, что все кончено.
– Да, кончено, – повторил я.
Дня через два я рассказал это Платону, как я рассказывал ему о многом, чего был свидетелем или участником. Он был очень пьян в тот вечер, я провожал его домой, и мы прошли таким образом больше половины расстояния, отделявшего наше кафе от маленькой улички, на которой он жил. По дороге он говорил, что действительно все кончено и что Сюзанна не подозревает, насколько она права. Перед тем как попрощаться, мы остановились на минуту под фонарем. Он прямо посмотрел мне в лицо своими мутными и неподвижными глазами, потом вдруг схватил мою руку, крепко ее сжал – это с ним случилось в первый раз за все время и сказал:
– Я не понимаю, как вы все это выносите, будучи непьющим человеком. Вам надо пить, уверяю вас, иначе вы погибнете; и когда наступит ваш собственный конец, он будет еще трагичнее, чем все, что вы мне рассказываете.
Я расстался с ним на avenue du Maine. Он уходил и делал короткие жесты правой рукой, я представлял себе, что он должен был повторять: надо пить, надо пить, надо пить, надо пить, иначе этого нельзя вынести.
И, возвращаясь домой на рассвете этого дня, я думал о ночных дорогах, и о смутно тревожном смысле всех этих последних лет, о смерти Ральди и Васильева, об Алисе, о Сюзанне, о Федорченко, о Платоне, о том немом и могучем воздушном течении, которое пересекало мой путь сквозь этот зловещий и фантастический Париж, – и которое несло с собой нелепые и чуждые мне трагедии, и понял, что в дальнейшем я увижу все иными глазами; и как бы мне ни пришлось жить и что бы ни сулила судьба, всегда позади меня, как сожженный и мертвый мир, как темные развалины рухнувших зданий, будет стоять неподвижным и безмолвным напоминанием этот чужой город далекой и чужой страны.
Мэтр Рай, француз, блондин с черными глазами и резким квадратным лицом, агент Surete Generale[15], был послан из Парижа в Москву по одному важному политическому делу. В те времена, о которых идет речь, ему было около тридцати лет; он давно уже окончил Парижский университет по юридическому факультету и около восьми лет занимался исключительно политическими предприятиями, приносившими большой доход и позволявшими ему, не имея личного состояния, жить довольно широко. Он пользовался репутацией одного из лучших агентов Франции; и слово «мэтр», которым его называли и на которое он имел право благодаря своему юридическому образованию, принимало довольно часто иной, более почтительный смысл: мэтр Рай действительно был головой выше всех своих коллег. Ему предстояла прекрасная карьера. Помимо чисто профессиональной ловкости, необходимой людям его ремесла, он был одарен многими другими способностями. Он бегло говорил на нескольких языках, понимал с полуслова то, что другим приходилось объяснять, никогда не срывался в своих опасных делах и был еще награжден необыкновенной удачей во всем, за что он брался. Говорили, что тень счастья следует за ним повсюду.
Он был ниже среднего роста, но очень силен; и целые годы постоянной физической тренировки и напряженных умственных усилий сделали из него почти непогрешимый человеческий механизм. Нервная система мэтра была в идеальном порядке: даже частые бессонные ночи нисколько не повлияли на нее. Он легко переносил путешествия какой угодно длительности, засыпал в любом положении, никогда не тяготился скукой бесконечных поездок и не знал, что такое морская болезнь. Оттого, что он был молод и очень здоров, и еще, пожалуй, из-за постоянных усилий воображения, направленных на разрешение опасных, но чисто практических задач, – отвлеченные идеи не привлекали к себе его интересов. Запас его сведений в том, что выходило за пределы его обязанностей – в этике, в философии, в искусстве, – был, однако, достаточно велик, чтобы позволить ему, если бы к тому представилась необходимость, построить и защитить какую-либо систему идей; но такой необходимости не представлялось – и знания мэтра оставались в этой области инертными и неподвижными. Мэтр Рай не допускал мысли о том, что, если бы они пришли в движение, это повлекло бы за собой катастрофу: в той душевной среде, которой был окружен мэтр Рай, не должно было происходить ничего, что не могло бы быть предвидено с большей или меньшей приблизительностью.