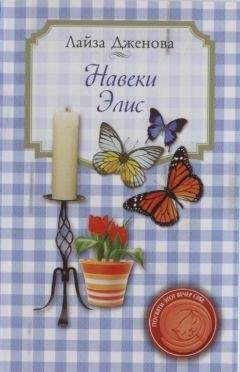вдруг молва докатилась до севера, до коровьего края, и это как раз Уолт Эванс плюет на него с высокой колокольни?
А что, если он ничего не знает, но не откликнулся бы, даже узнав? Ричард представляет себе, как отец открывает конверт, просматривает письмо один раз, комкает листок в кулаке и бросает в мусорное ведро. Или же читает его, складывает, засовывает в карман пальто, где оно, забытое, так и останется лежать в компании скатавшихся ворсинок и чека с заправки. Ни в одной из фантазий о возможной реакции адресата на это письмо мозг Ричарда не допускает вероятности того, что отец может поднять трубку или появиться на пороге. Тот отец, которого знает Ричард, никогда не скажет младшему сыну о своем потрясении, ужасе, сопереживании, сочувствии или любви.
Именно поэтому Ричард и не распечатывает это письмо.
Он знает, что не отправит и другие. Ему никогда не получить от отца того, что он хочет. А чего он хочет? Он хочет, чтобы отец признал, что был неправ, заставляя Ричарда чувствовать себя так, будто он недостаточно хорош для своей семьи. Хочет, чтобы отец сказал ему, что принимает его именно таким, какой он есть. Хочет, чтобы отец сказал, что гордится им. Хочет, чтобы отец вслух пожалел, что не выказывал своего интереса к его карьере пианиста, жене, дочери. К нему самому. Он хочет большое, жирное искреннее извинение.
Но Уолт Эванс — старый пес и уже не изменится, что-что, а уж извиняться точно никогда не станет. А теперь это и не важно. Какой Ричарду толк от его «прости»? Сделанного не воротишь.
И все же Ричард продолжает писать отцу письма. Приятно облечь все в слова — в слова, которые Ричард хотел бы сказать в шесть лет, но ему не хватало словарного запаса, слова, которые он хотел выкрикнуть в шестнадцать, но ему не хватало смелости, слова, которыми он хотел поспорить в двадцать шесть, но ему не хватало выдержки, слова, которые он хотел проговорить в сорок шесть, но ему в буквальном смысле не хватало голоса. Письма Ричарда выражают то, что он никогда бы не смог произнести, по хребту каждого напечатанного слова тянется древний шрам, каждое напечатанное предложение взрывает скопище молчаливых ран, хранящихся в самых темных глубинах его сущности, освобождая гнев и обиду, коих немало набралось за всю жизнь. Но создается впечатление, что, сколько бы предложений он ни написал, погребенные внутри несправедливости так до конца и не извлекаются на поверхность.
Он подумывает написать еще одно письмо, но у него не осталось сил. Мышцы шеи устают быстрее, когда он сидит за столом, а не полулежит в кресле или не опирается о спинку кровати. Теперь приходится прикладывать сознательные усилия, чтобы удерживать свою десятифунтовую голову прямо. Уже после нескольких минут печатания начинает страдать точность: голова клонится вперед и курсор сползает вниз по экрану. Пожалуй, он готов к одному из этих шейных корсетов, обычных мягких белых воротников, которые накладывают пострадавшим от травм.
Вместо сочинения нового послания он открывает второе письмо. Оно начинается с резюме, списка достижений Ричарда, его выступлений и рецензий на них (исключительно положительных). Если он не отправит этот вариант отцу, Тревор сможет использовать его в некрологе.
Он с отличием окончил Кёртис. Занимал должность доцента в Консерватории Новой Англии. Выступал с Чикагским и Бостонским симфоническими оркестрами; Нью-Йоркским, Кливлендским, Берлинским и Венским филармоническими оркестрами. Играл в бостонском Симфони-холле, Карнеги-холле, Линкольн-центре, лондонском Королевском Альберт-Холле, Тэнглвуде, Аспене и на многих других сценах и площадках. Его исполнение называли вдохновенным, завораживающим и демонстрирующим поистине виртуозное мастерство.
Я был великим пианистом. Мне рукоплескала публика по всему миру. Мне аплодировали стоя. Меня любили. Почему же ты не мог мне похлопать, а, пап? Почему не мог меня полюбить? Ричард так и не нашел удовлетворительного ответа ни на один из этих вопросов, но, глядя на свою биографию на экране компьютера, он понимает, что доказал, по крайней мере себе, — он достоин отцовской любви. Это с ним что-то не так, а не со мной. Ричарду потребовались сорок шесть лет и БАС, чтобы прийти к такому выводу, что может показаться прогрессом, но, должно быть, это всего лишь перекладывание вины, перемещение горошины из одного стручка в другой ловким движением руки, до сих пор скрытая от всех правда.
Возможно, если бы он с радостью играл отцу что-то более легкое для восприятия — скажем, Билли Джоэла или «Битлз», если бы хотел выступать в составе рок-н-ролльной группы по пивным барам, а не в концертном зале, сидя за классическим фортепиано, если бы вслед за Майки и Томми тоже увлекся футболом и бейсболом, отец одобрил бы его выбор. Уолт терпеть не мог классическую музыку. Они жили в столетнем фермерском доме с тремя спальнями, тонкими коврами и еще более тонкими стенами. Когда бы Ричард ни занимался, а делал он это круглыми сутками, в доме не было места, куда бы не доносился звук фортепиано. Если Ричард играл Баха, то весь дом слушал Баха.
Уолт Эванс Баха ненавидел. Его хватало минут на десять, после чего он вылетал из дома, хлопнув дверью, и либо работал во дворе, либо забирался в свой пикап и ехал в местный бар «У Моу». Если по какой-то причине он не мог уйти из дома, если мать Ричарда говорила, что ужин почти готов и Уолту приходилось терпеть игру сына еще несколько минут, то он взрывался. «Да прекратишь ты уже когда-нибудь это чертово бряцание?»
Ричард открывает следующее письмо, и каждое знакомое предложение, каждое древнее обвинение — точно сигнал горна, пробуждающий его давние темные страдания, призывающий восстать армию обиды и ненависти. Ты называл меня мямлей за то, что вместо футбола я играл на пианино… Называл меня гомиком за то, что я любил Моцарта… Угрожал разнести мое пианино топором в щепки и использовать их для розжига… Никогда не приходил на мои выступления… Никогда не принимал меня… Никогда даже не знал меня… Никогда не любил ни меня, ни Карину, ни Грейс.
Грейс!.. Его как будто пронзает электрическим разрядом, который сминает истерзанное поле брани внутри, оставляя Ричарда опустошенным, уставившимся в ужасе на экран компьютера, видящим, как история повторяется. Буквы на экране расплываются, а он представляет себе похожее письмо, но адресованное ему и написанное Грейс.
Ты выбрал фортепиано, а не меня. Никогда не приходил на мои игры. А теперь у тебя БАС, и ты уже никогда меня не узнаешь. Ты никогда не любил